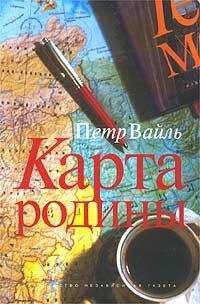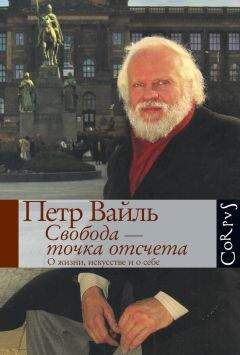Ознакомительная версия.
МОЛОКАНЕ
Семеновыми мы были не всегда. Наш предок — тамбовский дворянин Ивинский (с ударением на первом слоге). Усвоив в конце XVIII века идеи молоканства, отказался от дворянского звания, распустил крепостных. Очевидно, он черпал из первоисточника — основателем секты молокан был тамбовский крестьянин Семен Уклеин. В честь него Ивинский, решительно меняя жизнь, сменил и фамилию, став Семеновым.
Молокане — ответвление секты духоборов. Называются так оттого, что употребляют в пост молоко. Сами же именуют себя «духовными христианами», а расхожее имя объясняют тем, что их учение и есть то молоко, о котором говорится в Библии: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петр.2:2). Не признают храмы, иконы (как идолопоклонство), священников — каждая община выбирает пресвитера. Равно почитая ветхозаветный и новозаветный законы, не едят свинину. Протестантская установка на святость труда.
Константин Леонтьев хвалит семейные обычаи молокан, с воодушевлением описывая, как духовный суд старейшин публично мирит жену с мужем, «который обозвал ее словом бранным». У него это, как обычно, служит иллюстрацией к опустошенности Запада: «Куда обратится взор человека, полного ненависти к иным бездушным и сухим сторонам современного европейского прогресса? Куда, как не к России…».
В молоканском быту — кальвинистская суровость: ни табака, ни алкоголя. Натерпелся я от этих метастазов в юности. Такая подобралась семья. Отец, светский московский еврей, еще мог выпить в праздник две-три рюмки, курил трубку, и запах «Золотого руна» — навсегда запах детства. Мать же для виду пригубливала вина и, наверное, единственная из прошедших войну хирургов — не курила.
Вспоминаю свое восемнадцатилетие — первый день рождения, который мне позволили справить самому, без родителей, они согласились уйти на весь вечер в гости. Мать все приготовила и накрыла, выдержав тяжелейший спор со мной: сколько вина ставить на двенадцать человек — две бутылки или одну. Мать говорила; «Не напиваться же они придут». Кто победил, не помню да оно и не важно, наши прения текли чистым словесным молоком, а реальная субстанция была известна мне. В течение дискуссии я весело думал о том, что в шифоньере под зимними вещами со вчера припрятан ящик «Розового крепкого». Наш ответ молоканам. В семье была установка на здоровье — без каких-либо специальных мероприятий и процедур, просто считалось: кто не хочет болеть — не болеет. Я так и прожил без врачей сорок пять лет, с семи до пятидесяти двух, убеждаясь в правильности дворовой формулы: «Все болезни от нервов, только триппер от удовольствия».
Внедрялись навыки домашнего самообслуживания, вроде пришивания пуговиц, глажки брюк, ежевечерней стирки трусов и носков. С семи лет я ходил в магазин, готовил себе еду, потому что все с утра отправлялись на работу, а я учился во вторую смену. Обидный минимум карманных денег — и потому что были небогаты, и потому что считалось развратом: молоканская закваска.
Свободу вероисповедания молокане получили при Александре в 1805 году, а до того Ининский-Семенов с единомышленниками отправился сначала в Персию, потом в Армению.
Там его потомки жили в селе Еленовка. У меня есть фотография прадеда и прабабки с надписью на обороте: «Еленовка. Снято 3 октября 1889 года. Алексей Петровичъ и Марiя Ивановна Семеновы». Прадед со светлой ухоженной бородой и пышными остроконечными усами, в сюртуке-сибирке, из-под которого видны высокие каблуки сапог. Он сидит, прабабка, положив ему на плечо руку, стоит рядом в белом переднике поверх цветастого платья, в темном платке. Прадед очень хорош собой, или мне так хочется? На обороте еще надпись: «На память родным въ Асхабаде. 8 августа 1894 года». Это значит, что лучшую свою фотографию, почти пять лет хранившуюся в семейном архиве, отправили сыну — моему деду Михаилу, уже перебравшемуся в Среднюю Азию.
В начале 80-х XIX века Россия начала колонизацию Туркменистана. Поначалу туркмены — наездники и воины — сопротивлялись. Сам Скобелев только после двадцатидневной осады взял в 1881-м крепость Геоктепе. Через несколько дней русские без боя заняли неукрепленный Ашхабад. Колонизация предполагала освоение земель, а кочевники-туркмены на земле работать не умели и не хотели. Тогда и возникла идея привлечения молокан из Закавказья. Им, непьющим, работящим, давали бесплатные земельные наделы, льготные ссуды на приобретение орудий и скота, подъемные на переезд. В одном только 1888 году из района Эривани уехали в Туркмению семьдесят две молоканские семьи. Вдоль иранской границы вытянулась линия русских селений, где через столетие с лишним я безуспешно искал следы своих.
Оттуда, из деревни, на стыке веков перебрался дед Михаил в город, погубивший его и его семью. Мою семью. Говорят, я похож на дядю Петю. Судя по сохранившейся очень приличной фотографии — да. Юный Петр в нелепой шляпе сидит, оседлав декоративную корягу, на фоне панно с видом гор в ашхабадском фотоателье. Рядом — мальчик, его брат, дядя Миша, о котором у нас не полагалось упоминать. О его судьбе я узнал уже взрослым. Михаил прошел войну батальонным разведчиком, вернулся весь в орденах, его привлекли зицпредседателем в какие-то темные бизнесы, процветавшие в послевоенном Союзе (тогда это называлось «работать в местной промышленности»). Орденоносность не спасла, дядя Миша попал в тюрьму и в конце концов исчез неизвестно где. Для моей матери он был позор и табу, на вопросы она не отвечала. Да мало ли на что не отвечали в моей молоканско-советской семье.
Понятия не имею о перипетиях в отношениях между отцом и матерью, вообще мало что знаю о них по-настоящему. Еще и потому, что уехал в 77-м году в эмиграцию. Отец умер в 83-м, я не мог даже прилететь на похороны. Позже, когда появился настоящий интерес к своей семье, не у кого было спросить.
Как раз около 83-го года родителям тоже пришло в голову тронуться с места. Они даже попродавали кое-что из вещей: вслед за мной уехал мой брат, и они остались одни. Но ехать долго не хотели — думаю, правильно, что не хотели, старикам тяжело адаптироваться в новых местах. А они жили живой насыщенной жизнью, особенно отец, очень общественный человек. Да и мать тоже: когда я приезжал в 90-е годы в Ригу, замечал, что у матери телефон звонил каждые полчаса. Но почему все-таки возник тогда порыв и почему угас — не знаю. Если б отец был жив, он бы рассказал, а мать не рассказывала никогда ничего.
Только в сорок семь лет я выяснил, что, оказывается, крещеный. Мать упомянула об этом за полгода до своей смерти, и то как-то вскользь. Когда я родился, отец временно служил в Даугавпилсе, наезжал в Ригу только на выходные, и баба Паша, жившая тогда у нас, отнесла меня на улицу Акас в молоканский молельный дом, где и совершен был обряд крещения. Сказала ли мать когда-нибудь об этом отцу — не знаю. На коротенькой Акас через много лет пытался найти молоканские следы — куда там. Узнай я раньше о своем крещении, вряд ли в миропонимании произошли бы повороты. У меня никогда не было никакого иного самосознания, кроме просто русского — ни еврейского, ни сколько-нибудь религиозно окрашенного. Жить можно по заповедям, соблюдая их по сути, а не по форме. Все, что заложено в христианстве, — заложено в обычной человеческой морали. Неконкретное религиозное чувство выражается у меня в безусловном и крепнущем с годами доверии к потоку жизни. Человек, обладающий организованным религиозным сознанием, — не тоньше, не глубже, не проницательнее. Вера дается интуитивно, но интуиция проявляется и другими разными способами: та, которая приводит к вере, не превосходит иную — художественную, просто человеческую, сочувственную. Жизненный опыт показывает, что из обратившихся сохраняют широту и не впадают в догматичность — единицы. Как правило, неофит радостно хватается за оформление своего религиозного чувства — за церковность, что оборачивается в подавляющем большинстве случаев нетерпимостью и чувством совершенно незаслуженного превосходства. Музеи мира полны художества, которое создано единственно благодаря христианскому мироощущению. Но это искусство внятно агностику, и в целом христианство как культурное измерение доступно любому, хоть бы мусульманину. Разумеется, для полноты понимания лучше вырасти в нашей иудео-эллинско-христианской парадигме, но — в культурной, вовсе не обязательно религиозной. Христианское искусство отзывается и в неверующем: эти вечные сюжеты, проигрываемые каждый день. Представление о том, что Распятие и Воскресение происходят ежедневно, — правда. Правдивая метафора. Усомниться в том, что тело и кровь Христова при причастии реальны, с церковной точки зрения — ересь. Для агностика — это метафора, что и есть основа искусства.
Произведения на библейские темы создавали как глубоко верующие, так и ритуально религиозные, а по прошествии лет уже не отличить одного от другого. Понятно, что Фра Анджелико был человек истовой веры, но относительно очень светского Тициана есть большие сомнения: однако христианское в его картинах очевидно. Христианство настолько богато и широко, что его хватает на всех, сужать не стоит.
Ознакомительная версия.