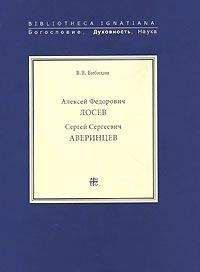В соответствии с жанром этой статьи мы не входим в обсуждение вопроса: как логически соединить тезис о безоговорочном равенстве всех культур с целым рядом тезисов Трубецкого, имплицирующим именно вердикт о превосходстве одних культур и низшем статусе других, например, таким: «Великие культуры всегда религиозны, безрелигиозные же культуры — упадочны» (статья «Религии Индии и христианство», 1922; там же, стр. 294). Вообще вся эта статья, показывающая Трубецкого таким, каким его описывал Р. Ягодич, — искренним, отчасти чуть наивным и менее всего толерантным апологетом Православия, — едва ли оставляет место для тезиса о равенстве культур. Единственный шанс спастись для индуса — это не просто принять христианство, но сделать это, «произведя коренной переворот во всей своей унаследованной от предков и впитанной с молоком матери религиозной психологии, разрушив эту психологию до самого основания, чтобы от нее не осталось и камня на камне» (стр. 292). Раз не должно остатьсякамня на камне, значит, индийская «инкультурация» христианской проповеди, ее перевод, так сказать, на язык автохтонной культуры не предполагается.
Эта тенденция покамест слаба в странах романских, но чрезвычайно сильна в Великобритании, Германии и особенно Австрии. Если где-то еще можно встретить, хотя бы на правах реликта, наивно-самодовольный пиетет к собственной культурной традиции, то разве что во Франции.
Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 98.
Там же, стр. 244.
Там же, стр. 242 — 243.
Интересно, что очень сходные формулировки употреблялись римлянами в связи с весьма сильным в Риме влиянием религиозных традиций Востока. Например, у Плиния Старшего мы читаем: «Vincendoque victi sumus», «победив, мы побеждены» (Natur. hist. XXIV, 5). Специально о влиянии иудаизма Сенека говорит: «Victi victoribus leges dederunt»,«побежденные дали законы победителям» (см.: August. De civ. Dei VI, 11). Но это явление, завершившееся в конце концов христианизацией Римской империи, — особая тема.
Ср. нашу статью «Античная риторика и судьбы античного рационализма» в кн. «Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика». Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1991, стр. 3 — 26; перепечатано в кн.: Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
Ода Ломоносова на день тезоименитства Петра Федоровича, 1743 год. (Разумеется, слово«богъ» со строчной литеры, — графика дала возможность, вплотную подойдя к границе кощунства, не перейти ее.)
Флоровский Г. Пути русского богословия, 3-е изд. Париж, 1937, стр. 49.
Summa theol. I, qu. 2, 3. Излагаются два возможных аргумента против бытия Божия; их опровержение («ad primum ergo dicendum est...»; «ad secundum dicendum...» ) следует в конце раздела, после изложения пяти «путей» доказательства бытия Божия.
«Об идее-правительнице идеократического государства», 1935; до этого — статья 1928 года «Идеократия и армия».
«В революциях русской и итальянской характерен не <...> захват власти, а тот факт, что все государственное строительство стихийно направляется в сторону создания особых политических форм, соответствующих принципу идеократии и долженствующих укрепить идеократический строй». Правда, описание этих феноменов у Трубецкого отнюдь не обходится без критики. «В Италии сущность идеократии заслонена культом личности Муссолини и голым организационизмом; благодаря этому фашизм не создает стройной миросозерцательной системы» («О государственном строе и форме правления», V — в кн.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 412 — 413). Достаточно известно, что само по себе сближение по критериюидеократичности между большевизмом и итальянским фашизмом не представляет собой в те годы для дискурса сменовеховско-младоросского типа ровно ничего необычного; Н. В. Устрялов подчеркивал, что «в деле ниспровержения формальной демократии <...> „Москва” указала дорогу „Риму”» (см.: Цакунов С. В. Нэп. Эволюция режима и рождение национал-большевизма. — В кн.: «Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал». Т. 1. Под ред. акад. Ю. Н. Афанасьева. М., 1997, стр. 57 — 119, особенно стр. 96 — 100).
«„Славянский характер” или „славянская психика” — мифы... Славянство не есть понятие этнопсихологическое, антропологическое, этнографическое или культурно-историческое, а понятиелингвистическое. Язык, и только язык, связывает славян друг с другом» («Общеславянский элемент в русской культуре», 1927 — в кн.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 206 — 207).
Столь характерное для Трубецкого превознесение туранства и превращение именно его в символ и знак неевропейской идентичности русских — пункт, в котором евразийцы особенно резко отошли от ранних славянофилов, для кого (отчасти в силу романтической рецепции антитезыИран — Туран, как она разработана в только что открытой тогда европейцами поэме Фирдоуси «Шах-наме») Туран есть символ рабства, — так что начало туранства усматривается ими в чем угодно (вплоть до католицизма), только не в русском Православии.
[Примечание автора]: «Важно, чтобы система стала именно подсознательной. В тех случаях, когда система, в простые и ясные схемы которой должно укладываться все (внешний мир, мысли, поведение, быт), осознается как таковая и постоянно пребывает в поле сознания, она превращается в „навязчивую идею” („idбee fixe”), а человек, одержимый ею, — в маниака-фанатика, лишенного всякой душевной ясности и спокойствия...» Далее в примечании разъясняется, что именно это происходит с туранцем, когда он попытается без способности к этому сознательно создать систему.
Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 155.
Там же, стр. 156.
Конечно, это только крайнее заострение проблемы, которая сама по себе возникла существенно раньше и в связи с общими чертами новоевропейской культуры. В классические эпохи конфессиональных контроверз, от поры Вселенских Соборов до поздневизантийско-латинской полемики и далее, споры велись в более строгом жанре, довольно однозначно ограничивавшем тематику: прежде всего — собственно о догматах, во вторую очередь — об обрядах, которым средневековое сознание тоже склонно было придавать вероучительный ранг; и если за всем этим прорисовывались контуры имперской и/или церковной политики, то не надо забывать, что сознание тех времен придавало идее «Священной Державы» (Imperium Sacrum), не говоря уже о церковном ранге Вселенских Кафедр Рима и Константинополя, опять-таки догматическое, вероучительное значение. О чем никто не говорил в те времена, так это о материях этнокультурных, этнопсихологических и «геополитических». Иная ситуации могла в полной мере реализоваться лишь тогда, ког да открытые романтиками концепты «местного колорита» и национальной «души» или «идеи» создали по всей Европе, включая Россию, новый интерес к затихшей было конфессиональной полемике: отныне речь шла о том, что инославные, как говорилось и прежде, имеют ложные доктринальные воззрения, но,кроме того, вся их культура — как минимум религиозная культура — являет некое дурное качество.
Ср. письмо П. П. Сувчинскому от 26 февраля 1922 года: «Какие тут могут быть разговоры о соединении с этими хамами?» (Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 775). Позднее, как известно, линия вульгаризации евразийской политической программы в сменовеховской манере была продолжена группами вроде младороссов во главе с А. Казем-Беком, и т. д. и т. п. Но проблема, которой не мог не видеть Трубецкой и которая причиняла ему столь очевидные страдания, в том и состоит, что выбор в пользу прагматической инструментализации идей в принципе требует прогрессирующего огрубения интеллектуальной совести и вкуса, которое у тех, кто будет приходить позже, непременно зайдет дальше, чем у основателей. Это как стародавний, использованный Гёте сюжет об ученике чародея, с ужасом взирающего на действие сил, которые сам же вызвал.
Там же, стр. 776