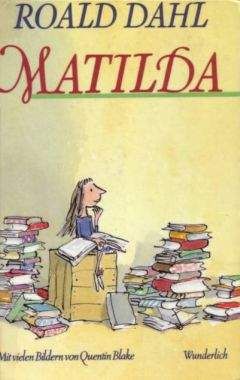Ознакомительная версия.
Итак, артефакт существует в четырех модусах или сложен по крайней мере из четырех уровней: сам артефакт как обособленный объект («нуклеарный» уровень), его проект мира («пленарный» уровень), множество пересечений его пленарного проекта с другими проектами («контактивный» уровень), практическое осуществление артефактом своего потенциала («прагматический» уровень). Именно контактивный уровень и порождает собственно культурное пространство. Нуклеарный – слишком близок природе; вещи как таковые (еще раз подчеркнем: неважно, материальные или идеальные это объекты) трудно вырвать из массивной природной среды, пленарный – слишком близок к духу, тем более что он нами непосредственно обнаруживается только через субъективную рефлексию. На контактивном же уровне происходит внесознательное сплетение различных образов в плотную ткань общекультурной картины мира.
Модусы артефакта
Даже тех немногих дистинкций и дефиниций, которые были здесь выстроены, достаточно для того, чтобы поставить под сомнение привычное представление о прозрачности культурного пространства, в котором на благо себе взаимодействуют создатели и потребители. Прежде всего надо признать, что культурное пространство принципиально разнородно. Все четыре модуса артефакта требуют различных способов выявления в общем контексте культуры. Нуклеарный артефакт связан со доменом профессионального цехового творчества, он порождает нужный, ожидаемый объект. Это – сфера культурной морфологии. Пленарное поле, окружающее артефакт, не дано так прямо и наглядно как нуклеарный модус; в нем происходит невидимая практическая работа, или же оно раскрывается через культурологическую рефлексию. Это – сфера культурной семантики. Контактивный модус, напротив, требует, чтобы проекты обособленных артефактов обнаруживались (хотя бы друг для друга) и выявлялись с достаточной полнотой как «бытие для другого». Это – сфера культурного синтаксиса. Наконец, последний модус – это сфера культурной прагматики.
Все это побуждает усомниться в том, что для описания способа существования артефакта достаточно одной модели. Традиционно ею оказывалась эстетическая модель взаимоотношений автора со своей аудиторией. Обманчивая наглядность этих отношений побуждала переносить их на все модусы, тогда как они по существу могут представить (и то лишь отчасти) только контактивный и прагматический модусы. Эстетическая модель упускает (или, точнее, не обязана учитывать) сложные отношения выявленного и невыявленного в артефакте, составляющие содержание пленарного и контактивного модусов. Так, например, следует признать, что общее поле культурной коммуникации не включает и не может включать в себя все, что наработано на нуклеарном и пленарном уровне, да и контактивный модус может быть выявлен в этом поле только в той мере, в какой он кому-нибудь нужен или интересен. Поле культурной коммуникации – это место встречи артефактов, которые стали явлением, и его назначение в том, чтобы профессионально-частное сделать всеобщим достоянием или, если угодно, товаром. Без этого невозможен прагматический модус артефакта. Но для превращения в феномен артефакт должен определенным образом измениться. Для описания этой трансмутации введем еще два термина. Общее культурное пространство, в котором происходит в необходимой мере выявление разнородных артефактов и их общение, назовем форенсивным измерением или форенсией. Артефакт как явление, как «публикацию», чтобы не путать его с явлениями вообще, которые описываются традиционной философской топикой «сущности и явления», назовем аппаренцией. Можно заметить, что артефакт становится видимым в разных модусах. Его нуклеарная данность – это простая фактичность. Его появление в форенсивном измерении, где возможно его внецеховое, непрофессиональное восприятие, – это аппаренция. В поле взаимодействия своего проекта с другими, в контактивном модусе артефакт также выявляется, но это не форенсивное выявление, т. е. не прямая аппаренция, как в предыдущем случае (не явление для всех), а косвенная аппаренция или проявление свернутых в артефакте возможностей.
Приведем несколько поясняющих иллюстраций. Изначально новый артефакт рождается в профессиональном пространстве своего культурного цеха: Дарвин создает теорию естественного отбора, Эйнштейн – теорию относительности, Ницше пишет «Заратустру», Пикассо – «Авиньонских девиц». Все они решают задачи, поставленные логикой развития их ремесла и сформулированные – явно или неявно – на профессиональном языке. Это не значит, что эти акторы безразличны к «коррелятивным морфемам»: так, Ницше вдохновлен Вагнером; Эйнштейн признается, что Достоевский значил для него больше, чем Гаусс. Однако их произведения все же остаются событием вполне определенного культурного домена. Выходя в форен-сивное измерение, они становятся прямыми аппаренциями, т. е. они открыты восприятию субъектов культурного рынка, не вовлеченных в профессиональные коллизии авторов. И здесь артефакт существенно меняется в двух аспектах: во-первых, он открывает только то, что может увидеть профан; во-вторых, он попадает в поле ожиданий акцептора, которое может не иметь ничего общего с действительным смыслом артефакта, но обладает при этом мощной энергией интерпретации. Дарвин вовсе не хотел сказать, что в борьбе за выживание должен победить сильнейший, Ницше отнюдь не пропагандировал культ силы и аморальности, Эйнштейн не хотел сказать, что все в мире относительно, Пикассо не нуждается в «трупе красоты»; их учения и деяния – вообще «не про то». Но аппаренция бессильна перед властью акцептора увидеть то, что хочется увидеть. И вот возникают такие странные феномены, как «социал-дарвинизм» и «ницшеанство», которые играют немалую роль в форенсивном пространстве культуры, хотя de foro, вне культурного рынка они бессмысленны. Сказанное не значит, что толкование аппаренции – обязательно профанация. Бергсон и Уайтхед откликнулись на теорию Эйнштейна интересными философскими построениями и толкованиями. Они стали фактом истории философии. Но не физики. С другой стороны, известно, что аппаренция идей Бергсона и Уайтхеда дала пищу для размышлений физикам, каковые размышления стали фактом физики, но не философии. Или, например, Гейзенберг делает открытие, перечитав платоновского «Тимея», но философия не может использовать идеи Гейзенберга, не превратив их обратно в философские идеи, причем физический смысл этих идей неизбежно исчезает. Другими словами, мы видим, что форенсия заполнена активным взаимодействием артефактов, но формы этого взаимодействия мало похожи на простую передачу сообщения от актора к акцептору. Сама по себе профанация нуклеарного смысла произведения еще не дискредитирует форенсию. Культурный рынок в этом отношении можно было бы назвать трансцендентальной профанацией (по аналогии с кантовской «трансцендентальной иллюзией»). Горизонт – не край земли и неба, но по-другому мы его увидеть не можем, это своего рода объективная иллюзия. Явление артефакта в форенсии – это не то, что артефакт «в себе», но по-другому в культуру он не попадает. Ничего драматичного в этом нет. Источник культурной патологии в ином: форенсивное пространство может нелегитимно расшириться и проникнуть туда, где ему не место, в другие культурные измерения, и там заместить их законы своими. В этом не обязательно виноват агрессивный рынок. Так, например, художественный авангард начала XX в. в лице многих своих выдающихся представителей быстрее, чем сам рынок, сообразил, что можно прагматизировать не только процесс продажи артефакта, но и поведение художника, и сам акт творчества, да и вообще размыть границы того и другого. Правда, справедливости ради надо сказать, что возможна инверсия этого процесса: преднамеренная профанация искусства может при определенных условиях достичь статуса действительного искусства. Тот же авангард дает и такие примеры.
Стоит обратить внимание на обозначенный выше модус косвенных аппаренций. Этот модус гораздо лучше защищен от профанации, чем прямые аппаренции, поскольку он не предполагает сознательной активности культурного субъекта. Бессознательный синтез косвенных аппаренций, т. е. бессубъектных по преимуществу взаимовлияний артефакционных полей, создает своего рода информационную среду для актора. В том измерении морфемы могут быть «похожими» друг на друга не потому, что кто-то допустил их профанную аналогию, а потому, что они «согласовали» свои пленарные проекты. На этом уровне и можно осуществлять морфологические исследования культуры, т. е. сравнивать заведомо несравнимое. Например, коррелятивные морфемы начала XX в.: генетики, квантовой механики, «Петербурга» Андрея Белого, кубизма Пикассо, логического атомизма Рассела, – могут быть рассмотрены как порождения косвенной аппаренции децентрализованного дегуманизированного универсума, в свою очередь рожденной «слабыми» контактивными взаимодействиями артефактов конца XIX в.
Ознакомительная версия.