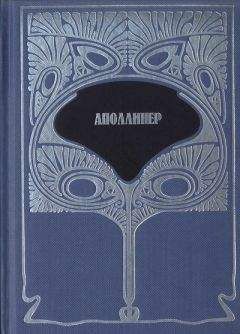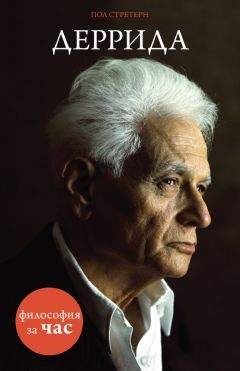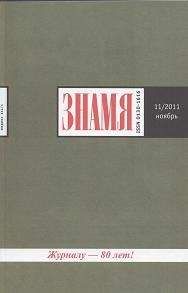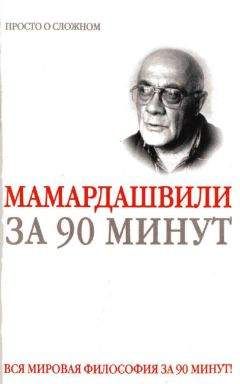322
оформленного. Бунт Батайя против геометрии выразился в заявлении, что мир как воплощение бесформенного подобен «пауку или плевку» (Батай, 1970:217). Чуть позже в тексте, озаглавленном «Отклонения от природы», он воспел «чудовища, которые диалектически расположены на полюсе, противоположном геометрической регулярности» (Батай, 1970:230).
Мотивы чудовищ, насекомых, смерти — все это присутствует и в «Андалузском псе», воплощая бесформенность мира. С этой точки зрения, пролог, еще перекликающийся с геометризмом «Полночи в два часа» Десноса, может одновременно читаться как перечеркивание (разрезание) принципа геометризма в пользу подобия бесформенности.
Фильм Бунюэля—Дали в своем сюжете отчасти описывает эволюцию сюрреалистской метафоры от полюса «оформленного» к полюсу «бесформенного», эволюцию, отражающую и характерные изменения в мироощущении сюрреалистов. На уровне формальных приемов эта эволюция может описываться как последовательность следующих этапов: акцентировка шаровой формы (глаз как символ взаимозаменяемости круглых объектов) — расчленение тела как способ элиминации целого, акцентировки частей и их автономизации. Но это расчленение тела вводит и мотив смерти как генератора текста. Смерть в широком ее понимании означает также и отторжение от всего предшествующего культурного интертекста. Она отмечает собой рубеж, за который выносится вся предшествующая традиция, рубеж, обозначающий становление новой поэтики. Смерть, гниение, распад устоявшихся форм — во всеобщей коммутационности элементов мира, в «некрофилическом» разжижении формы, в возникающем метаморфозном перетекании одних элементов в другие. Речь идет, по существу, о метафорическом уничтожении устойчивых культур-
323
ных парадигм во имя их замены синтагматическим мышлением, где цепочка, ряд взаимозаменяемых частей берут на себя основную семантическую функцию. Перед нами, таким образом, попытка радикального обновления киноязыка, в отличие от «Механического балета», ориентированного не на мифологию «сотворения мира», а на мифологию его конца.
Эта цепочка смысловых и формальных сдвигов (сама представляющая сюрреалистскую метафору) и есть маршрут сюрреалистской поэтики и мировоззрения, в свернутом виде представленный в фильме
Бунюэля-Дали.
В начале главы мы ставили вопрос о принципиальной способности синтагмы, структуры, цепочки элементов нормализовать текст без использования культурного интертекста. Вопрос этот может быть переформулирован: может ли синтагма, цепочка элементов, основанная лишь на внешнем подобии, заменить собой культурный интертекст, вытеснить его и уничтожить? Проведенный анализ убеждает нас в несостоятельности такой процедуры, поскольку сам принцип складывания синтагмы, сам положенный в ее основу механизм внешнего подобия или «симулакрума» может быть освоен зрителем только через интертекст. Для того чтобы принцип «симулакрума» заработал, он должен быть освоен в большом количестве текстов, он должен быть выработан в качестве языковой нормы в обширном слое сюрреалистской литературы.
Освоение этого принципа через иную, «негативную», интертекстуальность, как мы показали, идет также через интенсивное, но пародийное освоение разрушаемого, отрицаемого культурного интертекста (Вермеер, Пруст и т. д.). Перед нами, по существу, попытка разрушить классический интертекст через лихорадочное построение конкурирующей интертекстуальности.
324
Это столкновение интертекстов — классического и «негативного» — позволяет по-новому взглянуть на принцип «третьего текста», или интерпретанты, о котором говорилось в первой главе. В случае «Андалузского пса» интерпретанта (сюрреалистский негативный интертекст), в значительной степени сохраняя свои функции, предстает уже не как смысловая поправка или создатель стереоскопии смыслов, но в гораздо более радикальной роли. Она выступает как машина, блокирующая смыслы, как нормализатор текста, перекрывающий выходы на культурную парадигму и сворачивающий чтение текста на уровень его линейного развития — уровень синтагматической цепочки элементов. Таким образом, сама синтагматизация чтения, как это ни парадоксально, осуществляется за счет сложных интертекстуальных процедур, за счет операций, разворачивающихся вне поля текста.
Казалось бы, такая стратегия призвана разрушить символическое измерение фильма, свести его чтение к чистой расшифровке внешних подобий. В действительности дело обстоит гораздо сложнее. Элементы, оторванные от своего культурного контекста, неожиданным образом не столько подвергаются символической редукции, сколько становятся «темными», «иероглифическими» элементами, стимулирующими безграничное поле интерпретаций. Они подвергаются вторичной символизации, отчасти даже более сильной, чем та, что осуществлялась через традиционный интертекст. Рука, принадлежащая целостному организму, как бы теряет свое автономное значение за счет ее абсорбции неким значимым целым — человеческим телом. Рука, отрезанная от тела (а метафорически — от своего культурного интертекста), превращается в иероглиф, дающий основание для «безграничных» интерпретаций. Новый киноязык, таким образом, по-своему лукавит, борясь с символическими смыслами. Ирония Бунюэля по поводу символичес-
325
кого значения льва и орла у Ганса, представляющих «ярость, доблесть или империализм», может быть понята и как ирония победителя в соревновании за степень символической насыщенности изображения. Очевидно, что животные в фильмах самого Бунюэля могут быть интерпретированы как гораздо более неоднозначные и сложные символы, включенные в сознательно выстроенный текст-загадку.
Гриффит, строя свои иероглифы, довольствовался тем, что изолировал женщину (например, Лилиан Гиш в «Нетерпимости») от общего движения текста. Бунюэль и Дали идут гораздо дальше, расчленяя сам гриффитовский иероглиф на части и складывая эти части в цепочки «симулакрумов». Текст, как и тело, подвергаясь расчленению на автономизированные части, неизбежно становится набором иероглифических цитат. А блокировка чтения этих цитат через элиминируемый интертекст неизбежно приводит к еще большему возрастанию их цитатной функции, к усилению поиска интертекста, стимуляции смыслопорождающих операций, а в случае «Андалузского пса», к необычайному возрастанию роли «негативной» интерпретанты. Последняя в итоге и позволяет прочитать фильм как систему отсылок к общему смыслу. Ведь зрителю предлагается череда построенных на внешнем признаке метафор (имеющих характер загадки: зритель постоянно вынужден отгадывать, на какой черте внешнего подобия .строится метафорическая мутация), описывающих одно и то же ядро значения. Мы видели, как за цепочкой подобий возникает постоянный набор образов — жемчуг, череп (объединенный с мотивом жемчуга еще и устойчивой метафорой жемчужных зубов), муравьи, бабочка и т. д., — отсылающих к общему ядру значения — теме смерти, эротики и объединяющему их мотиву метаморфоз. В «Магнитных полях» Бретона—Супо есть образ «бабочки из рода сфинкса» (Бретон—Супо, 1968:32), олицетворяющей
326
загадку метаморфизма. Эта бабочка с полным основанием может стать знаком поэтики «Андалузского пса», потому что, в конце концов, смыслом фильма оказывается не столько его тема, сколько сама загадка метаморфизма, загадка языкового принципа, положенного в основу текста.
Часть 4. Теоретики-практики
Глава 6. Персонаж как «интертекстуальное тело» («Поручик Киже» Тынянова)
В первой главе уже говорилось о Юрии Тынянове как об одном из мыслителей, заложивших основы теории интертекстуальности. Как известно, Тынянов был также крупным теоретиком кино, имевшим опыт практической работы в кинематографе. Вот почему нам представилось важным обратиться к анализу одного из его кинематографических опытов — фильму «Поручик Киже», сделанному совместно с режиссером А. Файнциммером. В своей художественной практике Тынянов в значительной мере руководствовался концептуальным багажом, наработанным им в области теории. Это дало нам возможность проанализировать выбранный фильм с точки зрения реализации в нем определенных теоретических постулатов. «Поручик Киже» избран нами по нескольким причинам. Во-первых, его режиссер не обладал своими собственными оригинальными идеями в области поэтики (в отличие, скажем, от ФЭКСов, интерпретировавших сценарии Тынянова в рамках эксцентрических установок). Файнциммер, как нам представляется, в основном непосредственно следовал за тыняновскими указаниями. Во-вторых, определенный интерес, с точки зрения выбранной нами темы, представляет и сама творческая история сюжета о Киже. Сюжет этот подвергался многочисленным переработкам и существует в разных версиях (в том числе, и широко известной литературной); прихотливые смысловые связи, которые складывались между этими версиями, также могут быть поняты как интертекстуальные отношения.