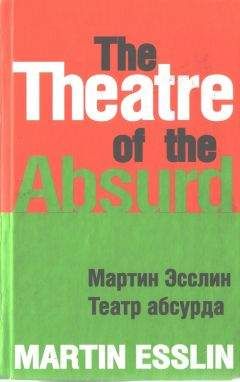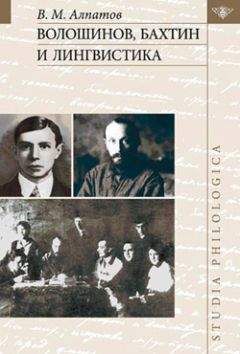Теория нового языка, дискутируемая в пьесе, блестяще обыграна. Прага — родина современной структурной лингвистики, и Гавел очень эффектно использует терминологию плеоназма (избыточности), информативной теории, и её смысл как метафоры ситуации в стране, где жизнь и смерть в прошлом зависели от точности интерпретации сакральных текстов марксизма. Структура действия симметрична: каждая сцена понижения Гросса по служебной лестнице корреспондируется с его восхождением. Гавел — мастер иронического, перевёрнутого повторения, почти идентичных фраз в различных контекстах. За издевательством над бюрократической процедурой, за языковой игрой Виттгенштейна стоит третий уровень значения: Гросс — всякий и каждый, запутавшийся в бесконечной, тщетной борьбе за положение, власть и самоутверждение.
Пьесы Гавела и Divadlo па Zabradli сыграли большую роль в утверждении атмосферы Пражской весны, предшествовавшей оккупации Чехословакии советскими войсками в августе 1968 года. Для Гавела и Гроссмана это означало конец их театральной деятельности. К тому же Гавел был лишён права публиковать свои книги. Гавел и чешские драматурги Павел Когоут, Иван Клима, Франтишек Павличек и ряд других были в первых рядах борцов против неосталинского режима, установленного СССР. Гавел — один из самых активных участников движения за права человека, провозглашенных Хельсинским соглашением. Его сатирические пьесы о ситуации в Чехословакии ставились в Германии, Скандинавии, Англии.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ТРАДИЦИЯ АБСУРДА
Может показаться странным, что глава, содержащая попытку представить контур традиции, на которую опирается театр абсурда, предшествует более важной главе оценки его создателей. Но история, как и большинство историй идей, — поиск исходных точек настоящего, и, следовательно, изменений как конфигураций современного перелома. Невозможно исследовать происхождение современного феномена, подобного театру абсурда, не зная первоначальных моментов, определивших его природу, игнорируя предшествущие элементы, соединяющиеся и распадающиеся в калейдоскопе структур меняющихся стилей и мировоззрений, совместившихся в нём. Авангардные движения едва ли можно всецело считать новыми, прежде не существовавшими. Театр абсурда возвращает к старым, даже архаическим традициям. В какой-то степени его новизна заключается в их необычной комбинации; неподготовленный зритель может быть оглушён таким соединением; между тем новаторство, кажущееся непонятным и опровергающим традиции, — расширение, повторение и развитие известных, признанных приёмов в несколько измененных контекстах.
Лишь привыкший к натуралистической и повествовательной театральной условности зритель сочтёт «Лысую певицу» Ионеско непонятной. Посади такого человека в мюзик-холле, и он поймёт абсурдную словесную бессюжетную перепалку комиков. Отправьте его с детьми на инсценировку «Алисы в стране чудес», которая всегда идёт в каком-нибудь театре, и он столкнется с освящённым веками образцом традиционного театра абсурда, очаровательного и понятного. И только потому, что привычка и закоснелая условность сузили способность публики понимать истинный театр, всякая попытка расширить пределы понимания встречает гневные протесты тех зрителей, которые пришли смотреть определённый тип спектакля и которым недостаёт непосредственности, чтобы по-другому подойти к спектаклю. Вековые традиции, которые театр абсурда воспринял в новых оригинальных комбинациях, чтобы отразить современные проблемы и навязчивые идеи, вероятно, можно классифицировать следующим образом.
«Чистый» театр, то есть абстрактные сценические эффекты, схожие с эффектами цирка или ревю, используемые жонглёрами, акробатами, матадорами и мимами.
Клоунада, буффонада, сцены сумасшествия.
Вербальная бессмыслица.
Литература снов и фантазий, часто включающая мощные аллегорические компоненты.
Эти рубрики частично совпадают: в клоунаде используются и вербальная бессмыслица, и абстрактные сценические эффекты, и такие бессюжетные, абстрактные театральные представления, как trionfi, и процессии, зачастую насыщеные аллегорическим смыслом. Их различие в том, что они разъясняют проблему на множестве примеров и способны к обособлению различных сюжетных линий.
Элемент «чистого», абстрактного театра в театре абсурда свидетельствует об его принадлежности к антилитературе, отказе от языка как инструмента для выражения глубинных уровней смысла. В ритуале и чистом стилизованном действии у Жене, количественном росте предметов у Ионеско, в мюзик-холльных трюках со шляпами в «В ожидании Годо», в овеществлении позиций персонажей в ранних пьесах Адамова, в попытках Тардьё создать театр только из движения и звука, в балетах и пантомимах Беккета и Ионеско мы видим возвращение к ранним невербальным формам театра.
Театр всегда нечто большее, чем язык. Язык можно прочесть, истинный театр становится реальностью лишь в спектакле. Выход тореадоров на арену, процессия участников на открытии Олимпийских игр, передвижение по столичным улицам глав государства, обряд, совершаемый священником во время литургии, — всё это содержит веские элементы театральных эффектов в чистом виде. Они обладают глубоким, часто метафизическим смыслом и выражают больше, чем может выразить язык. Эти качества отличают сценическое представление от прочтения пьесы. Они существуют независимо от слов, как представления индийских фокусников, которые восхищали Хэзлитта и помогли ему понять возможности человека: «Видим ли мы в этих представлениях некую энергетику или же почти чудо? Такое владение телом, начиная с нежного младенчества, и постоянное стремление к совершенствованию и достижению его в зрелости за пределами человеческих возможностей и превыше разума. Человек, ты чудо из чудес, и неисповедимы пути твои! Ты можешь творить чудеса, но как же мало используешь ты свои возможности!»1. Об этой удивительной метафизической силе говорит Ницше в «Рождении трагедии»: «Миф не воплощается в произнесенном слове. Структура сцен и визуальные образы открывают более глубокую мудрость, чем мудрость, которую поэт смог облечь в слова и идеи»2.
Между артистами бессловесных искусств, жонглерами, акробатами, канатоходцами, воздушными гимнастами и клоуном всегда устанавливаются тесные отношения. Из этой мощной и глубокой второстепенной традиции подлинный драматический театр снова и снова черпает силы и жизнеспособность. Эта традиция восходит к mimus, или античной пантомиме, форме народного театра, сосуществовавшего наряду с трагедией и комедией, часто более популярного и значимого. Пантомима была зрелищем с танцем, пением, жонглированием, но в большей степени опиралась на откровенно реалистическое изображение характерных типажей в наполовину импровизированной спонтанной клоунаде.
Герман Райх, крупный учёный, объективно изучив малоизвестные источники, пытался прочертить линию преемственности от латинских mimus через комические персонажи средневековой драмы к итальянской сотmedia dell ’arte и шутам Шекспира. В середине XX века его изыскания о прямой преемственности традиции были дискредитированы, но после публикации его монументального исследования глубинная внутренняя связь этих форм стала самоочевидной.
В античной пантомиме клоун предстает как moros или как stupidos[44] его абсурдное поведение возникает из-за неспособности понять простейшие логические отношения. Райх цитирует персонажа, который хочет продать свой дом и таскает с собой кирпич в качестве образца; подобный гэг характерен и для Арлекина. Ещё один такой персонаж хочет научить своего осла искусству обходиться без еды. Когда осёл все же подыхает от голода, он говорит: «Это тяжёлая потеря; мой осёл учился искусству обходиться без еды и сдох»3. И ещё один пример. Персонажу приснилось, что он наступил на гвоздь и поранил ногу. Он наложил на неё повязку. Приятель спрашивает его, что произошло и в ответ слышит, что во сне ему приснилось, что он наступил на гвоздь: «Как глупо! Почему мы ложимся спать босыми?»4
Подобные гротескные персонажи возникли в mimus в рамках грубой реалистической нормы, однако характерно, что в этих пьесах, часто наполовину сымпровизированных, нет строгих правил трагедии или комедии. Количество персонажей не ограничено; в них участвуют женщины и даже играют главные роли; не соблюдены единство времени и места. Помимо пьес с заранее заготовленными сюжетами (hypothesis) встречались и более короткие бессюжетные представления, включающие имитации животных, танцы или забавные трюки (раеgnia). В поздней античности превалировали фантастические сюжеты со сновидческими темами. Райх цитирует Апулея, упоминающего mimus hallucinatur, и добавляет: «Нам должно помнить не только о низком смысле hallucinari как «говорящего наобум, болтающего вздор», но также о более высоком смысле «сновидческих, странных явлений». При всем реализме mimus нередко содержал любопытные сны и галлюцинации, как, например, в пьесах Аристофана. Ювенал интерпретирует пантомимы, как paradoxi. Фактически, всё фантастическое парадоксально так же, как и mimicae ineptiae,[45] клоунада и шутовство. Возможно, интерпретация Ювенала включает оба аспекта. В mimus высокое и низкое, серьёзное и даже вызывающее ужас чудесным образом смешаны с бурлеском и юмором; плоский реализм соседствует с фантастическими и магическими элементами»5.