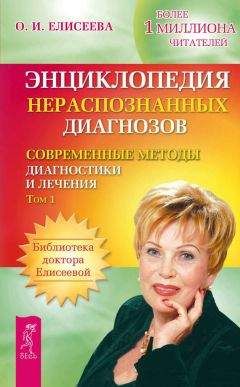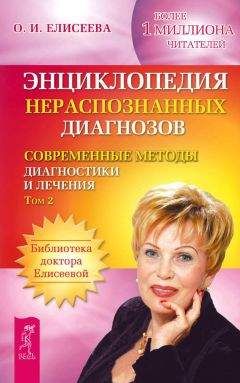Более эксплицитно идеологический переворот в определении роли женщины прослеживается в работах Горбачева, в частности в книге «Перестройка», призванной популяризовать идеи реформ и обращенной к «гражданам всего мира» [Gorbatschew 1987: 7]. В главе под характерным названием «Женщина и семья» после привычного упоминания достижений в области женской эмансипации следует неожиданное признание в «ошибках». По мнению Горбачева, годы героической революционной борьбы и восстановления народного хозяйства привели к нарушению естественного положения вещей — упущению из вида роли женщины как матери, домохозяйки и воспитательницы, что повлекло за собой «нравственные, культурные и производственные проблемы», «проблемы детей и молодежи», «ослабление семейных связей и пренебрежение семейными обязанностями». Важной задачей перестройки полагается исправление парадоксальных последствий женского равенства и возвращение женщины к ее «истинно женским задачам».
Аргументация Горбачева подразумевает распределение семейных ролей по модели едва ли не вековой давности. Забота о детях, домашнее хозяйство и сохранение семьи определяются как исключительно женские обязанности, разделение труда в семье не предполагается, а мужчина в этом контексте не упоминается вовсе: ни как муж, ни как отец. Равенство полов в СССР не только не достигнуто — Горбачев говорит лишь о попытке уровнять мужчину и женщину, справедливо опровергая утверждения советской пропаганды, но сама цель признается исходя из перспективы 1980-х годов ошибочной. Очевидно, что общий кризис советской системы коснулся не только политики и экономики, но и комплекса представлений об интимной сфере, семейных ценностях и взаимоотношениях полов.
Помимо неожиданного консерватизма в женском вопросе поражает эксплицитный отказ от традиционного образа советской пропаганды. Женщина определяется не как активный и сознательный строитель социализма, но как «страдалица» [Gorbatschew 1987:147], вынесшая на своих плечах тяготы войны и разрухи, а в послевоенные годы оторванная от семьи в силу неверного понимания мужского и женского равенства. Она не участник политических решений, она их жертва, которой следует «помочь», — это основная мысль статьи Горбачева. Топика статьи во многом предвосхищает грядущие дебаты о женственности: в дискурсе 1980–1990-х годов именно пассивное страдание и материнство становятся основными компонентами женственности.
Широкая дискуссия о роли женщины в советском обществе начинается с проблемы совмещения труда и материнства. В «Работнице» на смену привычным статьям о международной женской солидарности приходят публикации о надомной работе, неполном рабочем дне и льготах работающим матерям (см. публикации № и за 1987 год, № 9, 10, 11,12 за 1988-й и № 1,2, 3 за 1989-й). Идея, которую подобные публикации должны были нести в массы, формулирует О. Лапутина в статье «Неполный рабочий день: блажь или необходимость?»: «Не беда, если какая-то часть наших женщин на время или навсегда уйдут в материнство» [Лапутина 1988: 20].
Такой перенос акцента, когда в женщине виделась больше мать, чем работница, привел в конечном счете к радикальному изменению топики дискуссии: поскольку материнство подконтрольно гинекологии, происходит медикализация дискурса о женщине. На страницах популярных женских журналов все чаще выступают врачи или представители смежных с медициной дисциплин. Изменяется и визуальный ряд журнальных публикаций. С журнальных полос исчезают женщины-директриссы в строгих костюмах, простые работницы и женщины-депутаты. Их место все чаще занимают фотографии женщин в интерьере больничных палат.
Проблемы советской гинекологии: низкая рождаемость, высокая детская и материнская смертность, катастрофическое количество абортов и, как следствие, женские патологии и бесплодие суждено было затронуть в печати не медикам, а демографам, которые еще в 1970-е годы пытались анализировать сложившуюся ситуацию. На стыке медицины и демографии в начале 1980-х годов развился целый жанр популярных руководств молодым супругам, предвосхищающий публикации конца 1980-х и утверждающий такие нормы полоролевого поведения, как ранний брак: чем раньше заключен брак, тем больше детей может быть рождено, прежде чем родители потеряют репродуктивные способности или необходимость материнства с медицинской точки зрения. Быть матерью полезно для здоровья, не быть — вредно [Кондаков 1981: 99]. Так что Горбачев, призывая женщин исполнить свой биологический долг, опирался на вполне разработанный научный и научно-популярный дискурс.
Именно демографы первыми вошли в конфликт с официальной гинекологией, фактически обвинив медицину во всех бедах пронатальной политики. Л. И. Ременник в 1986 году в статье для сборника «Детность семьи…» назвала аборт «наибольшим злом» и высказала крамольную мысль о необходимости популяризации гормональных препаратов [Ременник 1986:168–169] (цит. по: [Кон 1997: 305]) — Официальная медицина занимала прямо противоположную позицию, отказываясь от гормональных контрацептивов в пользу аборта. Для советской гинекологии аборт был наиболее привычным способом ограничения рождаемости, введение новых контрацептивов требовало переподготовки кадров. Кроме того, абортные клиники приносили значительный доход, так как аборт был платной процедурой. Но наибольшее значение в полемике pro и contra искусственного прерывания беременности имело то, что предпочтение абортной стратегии означало почти тотальный врачебный контроль за женским телом, который в советских условиях был практически равен государственному [Кон 1997:304]. Случаи прямого государственного вмешательства в репродуктивное поведение советских женщин известны. Это прежде всего запрет абортов с 1936 по 1955 год[255], в этом же ряду стоит и менее известный приказ Министерства здравоохранения от 1 августа 1971 года, ограничивающий применение гормональных контрацептивов [Кон 1997: 303].
Вероятно, что унизительность и болезненность процедуры аборта должна была заставить женщину лишний раз задуматься и, возможно, предпочесть материнство. Сами пациентки расценивали аборт как наказание: «тебя наказывают за твое поведение, за секс», цитирует И. С. Кон мнение 23-летней респондентки [Кон 1997: 303]— Распространенное мнение советских гинекологов об особенном вреде прерывания первой беременности в условиях тотальной контрацептивной безграмотности так же являлось косвенным аргументом в пользу раннего — «залетного» — брака и материнства. Таким образом, в дискурсе советской гинекологии тема сексуальности, и в особенности женской сексуальности, сводилась к чистой репродуктивности, а абстрактные партийные установки переводились на конкретный язык тела. Более того, сексуальность сама по себе, не освященная чудом материнства, оценивалась как нечто предосудительное. Советская гинекология отнюдь не обслуживала женщину. Она контролировала и диктовала ей сексуальное и репродуктивное поведение, определенное политическим и экономическим моментом, сохраняя таким образом инерцию тоталитарной эпохи и оставаясь по отношению к женщине контрольно-репрессивной институцией.
Серьезный урон контрацептивной политике официальной гинекологии был нанесен журналом «Работница», опубликовавшим дискуссию гинекологов и демографов по проблеме аборта и подборку читательских писем на эту тему (Работница 1987 № 7:12–14), а также «круглый стол» «Счастье рождений или муки родов» (Работница 1989 № 4) и предшествующие ему публикации. Материалы первой дискуссии были переданы через Р. Горбачеву М. Горбачеву, после чего Минздрав начал менять политику, включив в план развития советского здравоохранения параграф о борьбе с абортами [Кон 1997: 307]. Так журнал «Работница» стал той точкой, в которой пересеклись политика, медицина и демография. Но не только: публикации, подобные публикациям «Работницы», — в эти годы они волной проходят практически через все популярные периодические издания — определили самую распространенную модель женственности. В значительной мере через посредство публицистики тема аборта и материнства вошла в литературный дискурс 1980–1990-х годов и стала необходимой частью топики репрезентации женственности.
Во второй половине 1980-х годов советская публицистика откликается на гинекологическую агитацию целым рядом резко критических статей, посвященных этой проблематике (ср. уже упомянутые «круглые столы» в «Работнице», статью Н. Владиной «Женщины уже не просят — требуют неотложной помощи: так что же для них аборт: операция или пытка?» [Владина 1989]; статью 3. Алешиной «Мой малыш» о патологии беременности [Алешина 1988]; статьи С. Буровой «Миниаборты и макси-проблемы» о нехватке поликлиник и врачей-специалистов, работающих по новой абортной технологии [Бурова 1988а], и «Дурной сон» о тяжелых родах [Бурова 1988б]). Их пафос заключается по преимуществу в обнародовании — в духе гласности — фактов жестокого обращения с пациентками роддомов и абортариев, случаев врачебной неграмотности, ошибок и халатности. Никаких способов улучшения катастрофической ситуации, кроме апелляций к государственным инстанциям, публицистика не предлагала. Зато обилие критических статей на темы родовспоможения и абортов и часто используемый журналистами прием обобщения создавали впечатление безысходности — неизбежности женского страдания. Мучительный аборт и болезненное материнство становились таким образом частью женской самоидентификации, а их тематизация в литературе — способом типизации женских характеров.