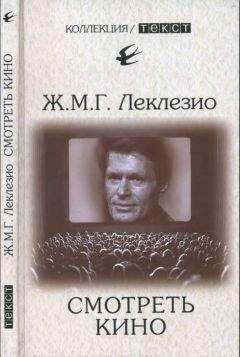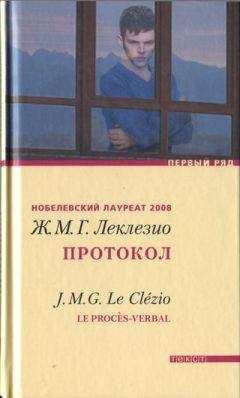Смех сквозь слёзы
Иногда говорят, что труднее посмеяться с друзьями, чем поплакать с врагами. Если это правда, то кинематограф может служить примером такой трудности, ибо он начал смеяться с самых первых лет своей жизни. Эта необычная механика кажется созданной для уморительных забав, импровизации. Прежде чем придумать мелодраму или саспенс, кино изобрело гэг. Вырезанные из черной бумаги силуэты на белом экране передвигаются, спотыкаются, падают, поднимаются, пошатываясь, теряют все свое достоинство или пытаются обрести его заново, поправляя шляпу тросточкой. Гэг прекрасно вписывался в немоту экрана. Чтобы понять, слов не нужно. Поджидающая ловушка, засада, оплошность — все сразу заметно. Зритель, как в пьесе театра гиньоль, упивается тем, что сам-то смотрит со стороны, и догадывается, что сейчас произойдет.
Мое детство протекало под обаянием такого вот кино, самого немудрящего, самого действенного. И моим любимым героем тех времен (в бабушкином коридоре, которым и ограничивался весь мир зрелищ) был Гарольд Ллойд. Уже потом я посмотрел великих классиков — Макса Линдера, Бастера Китона, Чаплина, В.К.Филдса, Лаурела и Харди, Кантинфласа. По мне, никто из них не идет ни в какое сравнение с Гарольдом Ллойдом. Дело тут не в моем снобизме или причастности к избранному кругу. Между 1920 и 1930 годом Гарольд Ллойд снялся в ряде самых лучших комедийных фильмов за всю историю кино. Я не видел эпизодов с Лонесамом Лаком, когда Ллойд еще не Гарольд, он только нащупывает свой персонаж — ведь тем же путем шли и Чаплин, и Линдер, и большинство великих актеров немого кино. Для меня его творчество начинается с «Дома с привидениями», который я смотрел, наверное, сотню раз, крутя ручку бабушкиного детского «Патэ». С тех пор я не пересматривал его. У меня сохранилось впечатление, что фильм очень длинный, сложный, где смешное перемешано со страшным, мне даже кажется, что я слышу звуки, хлопанье дверей, завывания привидений, закутанных в белые простыни, смех, когда на экране испуганное и нежное лицо малыша Саншайна Сэмми Моррисона. Потом я узнал, что Сэмми было примерно столько же лет, сколько моему отцу, что он сделал долгую карьеру в кинематографе вплоть до своей смерти в 1970-е годы. Но когда я смотрел «Дом с привидениями», я видел мальчишку своих лет, и мне по сей день кажется, что это был мой братишка, еще не выросший, я вспоминаю его так же, как тех африканских малышей, с которыми играл возле отцовского дома в Огожа. Фильм датирован 1920 годом, это начало великой эпохи Гарольда Ллойда, времен «Выйдите и доберитесь», «Горячей воды» (там Гарольд впервые стоит на крыше трамвая в Сан-Франциско, прижимая к груди индюшку) и особенно «Наконец в безопасности», с той бессмертной сценой, когда Гарольд карабкается по фасаду большого магазина компании «Энгульф и Девор», а потом цепляется за стрелки часов. Но шедевром Гарольда Ллойда для меня остается «Женобоязнь», снятая в 1924 году. В этом фильме с его ошеломляющим ритмом Гарольд — подмастерье портного, скромный и неуклюжий, один вид молодой девушки превращает его в заику. Излечиться от этого недуга помогает только свисток его дядюшки. Но при этом он мечтает стать писателем и приносит насмешливому издателю рукопись своего «Искусства заниматься любовью», подписанного псевдонимом «Эксперт». Случай сводит его с дочкой богатого промышленника, за которой увивается мужчина, интересующийся главным образом ее состоянием. Фильм, сперва немного слащавый (хотя Гарольд Ллойд ухитряется сделать так, чтобы в немом фильме мы слышали, как он заикается), заканчивается самой необыкновенной гонкой с преследованием в истории кино (ни комбинированных съемок, ни дублера — а она стоит всех современных сцен!) Через весь Сан-Франциско мчится Гарольд на повозке с отваливающимися колесами, на мотоцикле полицейского, на несущейся стремительным галопом лошади, потом на крыше трамвая без вагоновожатого, повиснув на электрорее. Изумительно!
«Ordet» («Слово»)Карла Дрейера (снятое в 1955 году) — один из безусловных шедевров кино. Мощь его образов, некий род визуального колдовства, проникающего в нас исподволь, понемногу, заставляя утратить чувство реальности, — пример того, сколь многого удалось достичь искусству кино со времени его изобретения. Только живые картины, ритм эпизодов могли обладать подобной силой. В «Слове» очень мало дерзновенных нововведений — если сравнивать стиль Дрейера со стилем Ланга или Мурнау, — совсем маловато и эффектов, как и движений камеры или крупных планов, и никаких комбинированных съемок. Ритм медленный, планы по большей части средние, снятые без всякого нажима на высоте человеческого роста, все сцены практически полностью интерьерные. Игра актеров напыщенна, без ярко выраженной экспрессии, дикция театральная.
И тем не менее это далеко не театр. Медлительность, тяжеловесность ритма, ощущение странности, в которую погружена обстановка сцен, определенное пристрастие к продолжительным паузам, насыщенность молчания, а главное — эта необыкновенная конструкция в черно-белом, лица, подчеркнуто помещенные в самый центр затемненной зоны, композиция вглубь, освещаемая лишь бледным лучом из узенького окошка, — все это очень сближает нас с героями, как будто это мы сами находимся внутри дома патриарха семейства Борген, дышим воздухом этой драмы, стремимся тоже принять в ней участие. Вот она, разница между искусством кинематографическим и искусством сценическим. Дрейер передает напряженность потрясающей человеческой драмы, не прибегая к помощи движения, наоборот — ограничивая поле действия неким замкнутым пространством. Ферма семейства Борген — низкие потолки, окна, больше походящие на бойницы, свет, ужавшийся до кружка от масляной лампы, — закрытое место, в котором чувства докипают до степени неконтролируемого безумия. С той стороны — дом Петера Петерсена, врага Боргенов, и их истовая религиозность, пуританская и ханжеская, кажется миром свободы и радости по сравнению с железными семейными запретами, которые установил патриарх-вольнодумец.
В его закрытой от мира крепости единственным разумным существом кажется Иоханнес Борген со своей просветленной верой. Его нежность, его детский мистицизм — мерцающее пламя, блуждающий огонек посреди пронизывающего всю уединенную ферму насилия. Единственные мгновения свободы — только когда повозка патриарха мчится мимо дикой деревни, где высоченные травы и камыши гнутся под ветром, а над людьми нависает низкое облачное небо, ослепляющее пустотой и холодом, безразличием и вечностью.
В комнате дома Боргенов рожает невестка (Ингер, сыгранная актрисой Биргиттой Федершциль) — и это одна из самых мощных сцен фильма, полная первобытной силы, заставляющей забиться наше сердце, причиняющая нам боль, потому что она связана с жизнью, с той реальностью, в какой живут все женщины. Все происходит по ту сторону стены, мы ничего не видим. Зато слышим. Вопли, рыдания страдающей роженицы (легенда рассказывает, что актриса была беременна во время съемок и, когда ей пришло время родить, Дрейер записал ее крики и плач для озвучания этой сцены) смешиваются с шумом со двора, из внешнего мира, с доносящимся из стойла тяжелым мычанием коров. В существующем мире, по Дрейеру, нет ни нежности, ни гармонии, он земной и жестокий, и жизнь в нем перемешана со смертью, а фантазия — с истиной.
Лишь два существа заслуживают спасения в этом хаосе гордыни, религиозной веры, интересов, озлобления. Иоханнес, этакий Иисус, отвергнутый людьми и замкнувшийся в безумии, — он единственный, кто достоин называться сыном человеческим. И Ингер, молодая жена Миккеля Боргена, умирающая при родах. Они встречаются только раз — в финальной сцене. Медленная и тяжелая поступь фильма, обыденные сцены из сельской жизни, ненависть, разделяющая глав обоих семейств, та разновидность веры пополам с суевериями, что сродни колдовству, чью истинную сущность так умело показывает Дрейер, опасная, таящая прямую угрозу, которой противостоит одно только безумие Иоханнеса, — все это, что не назовешь иначе как реализм, ведет нас к непостижимому, неприемлемому для понимания. В тот миг, когда крышка гроба уже вот-вот захлопнется над телом Ингер, Иоханнес взывает к той, в ком уже явила свою сущность смерть, и вновь возвращает ее к жизни. Иоханнес-то говорит, обращаясь к Ингер, но мы видим чудо воскресения отраженным на лице маленькой дочки Ингер. Эта сцена покоряет вас, трогает до слез. Ах, сколько еще можно сказать о слезах в кино! Разве не потрясающе, что простой ряд черно-белых картинок на плоском экране волнует вас так, словно вы сами там, по ту сторону, как будто вы пальцами ощупываете эти существа и предметы, сами являетесь их частью, сами родом из этой же семьи? Финальная сцена «Слова» отмечена дерзновенностью незабвенной и в то же время простотою почти детской. Она одна показывает всю силу кинематографа, несравненную в его первые времена.