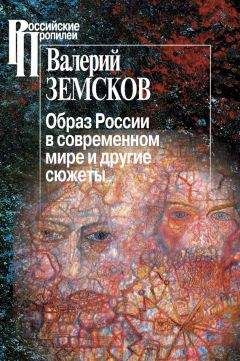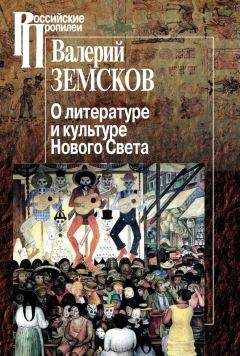Ознакомительная версия.
Основное для понимания отношений между этими двумя базовыми формами – их различие в отношении к категории «новое».
Чтобы выполнить свою роль, быль обязана увидеть новое как новое, необычное, выдающееся, небывалое, непонятное, даже как необъяснимое, а следовательно, в той или иной мере противопоставить происходящее или произошедшее устоявшейся концептуальной системе. Предание же во имя сохранения своего единства обязано интерпретировать новое как повторение или развитие предшествующего. Таким образом, быль акцентирует единичность, уникальность и новизну произошедшего, а предание осмысливает единичное как не уникальное, нетиповое как типовое.
Такая система отношений сохраняет свою общую схему и в культуре Нового и Новейшего времени, когда идущие издавна процессы дифференциации начального синкретического знания об истории кульминируют в разделении научной, нового типа историографии и художественной литературы (эпические жанры), каждая из которых представляет собой концептуальную систему освоения мира, а в промежуточной зоне между ними всегда сохраняет свою автономию документальная константа, обслуживающая обе системы, но ревниво оберегающая свою сферу независимости, а именно: новизну, уникальность, единичность, особенность, неповторимость.
Данная система связей соответствует «нормальной» или стабильной ситуации в историческом процессе, но нарушается, когда происходит его качественная дестабилизация, когда новое оказывается столь новым и уникальным, что не поддается моделированию и осмыслению в рамках устоявшейся системы интерпретации действительности. Именно в такие моменты наступает кризис концептуальной системы, обнаруживающей свою неспособность обобщить новое и включить единичное и уникальное в единую цепь. Наступает особый час документальной словесности, когда резко возрастает не только ее фиксирующая, но и интерпретирующая функция. В условиях кризиса старой концептуальности этот вид словесности берет на себя роль первичной, «черновой» интерпретации и концептуализации небывалого. И чем острее кризис, тем выше интерпретирующая, обобщающая роль документальной словесности.
Подобные шоковые потрясения, вызывающие кризис старой концептуальной системы, самих ее основ – образно-языкового фонда, средств передачи и осмысления информации, а следовательно, способов «формовки» картины мира, возникают всегда как следствие катастрофических общественных сдвигов.
Так, то, что происходило в эпоху открытия и завоевания Нового Света, многократно превзошло всякую мыслимую новизну: ведь были обнаружены неведомая часть света и неизвестная до того часть человечества. Нарастающий шквал документальной информации разной степени достоверности поставил в тупик знакомую картину мира и вызвал жестокий кризис концептуальной системы на всех уровнях: от натурфилософских представлений до понятийного и языкового арсенала, и, соответственно, способов освоения и типизации нового в соответствии с известным, типовым.
Кризис этот получил самое разнообразное выражение в документах эпохи, в разножанровых сочинениях, особенно в хрониках, но, пожалуй, наиболее яркое – в известном высказывании Колумба, не раз повторенном впоследствии другими первооткрывателями: нет слов, чтобы описать увиденное. Ему же принадлежит вытекающее из этого кризиса определение увиденного как «чуда». Этим словом он характеризует в знаменитом первом письме открывшуюся ему небывалую реальность, и это видение новооткрытого мира как мистической реальности, некоей зоны между подлинностью и мистерией, нарастало от путешествия к путешествию. Такое видение Колумба архетипично для культуры эпохи великих открытий и конкисты Америки: невероятные, неожиданные события разрушали не только старую картину мира, но и всю систему ключевых концептов и категорий, на которой она держалась.
Наиболее ясно кризисная ситуация обнаруживается в смене смыслов и содержания таких ключевых для эпохи, восходящих к аристотелевской системе категорий, как «правдивое», «вероятное» и «невероятное». «Невероятное» в ту пору было принадлежностью фантастической рыцарской эпики. С открытием Нового Света новая действительность сама предстала как фантастическая, как сценарий рыцарского романа, где «чудо» есть норма и обыденность. Соответственно, произошел кризис понятий «правдивого» и «вероятоподобного», которые под воздействием мифологизированного сознания первооткрывателей начали наполняться «невероятным».
Роль «чуда» как категории мифологизированного мышления в культуре эпохи открытия и конкисты Нового Света огромна. В Старом Свете, в Европе конца эпохи Возрождения происходил процесс разделения реального и мифологического, религиозного, в Другом Свете они вновь смешались. Культурное сознание словно совершило прыжок назад, в Средние века – оно архаизировалось. Произошел распад границы между былью и «небывальщиной», они проникают друг в друга. Чудо стало реальностью, а реальность выглядит выдумкой. Документ, соответственно, насыщается легендарно-фантастическими, эсхатологическими, воображенными, вымышленными «фактами».
Однако мифологизмом сознание первооткрывателей не исчерпывалось. Уже в первом письме Колумба наблюдается не только мифологизированная интерпретация («райские острова» с «добрыми», «счастливыми» людьми), но и стремление дать сциентистское обозначение открытой реальности, локализовать ее (пусть и ошибочно на первых порах) в географии и истории. Ведь первооткрыватели были и носителями сознания кризисного века Ренессанса, и творцами важнейшего акта в истоке Нового времени, в котором достигли кульминации все научные достижения эпохи – открытия Земли и человечества во всей их полноте. Именно это обнаруживает словесность XVI в., зафиксировавшая и другую линию развития – движение в направлении осмысления истины о «чуде» и к упорядочению принципиально нового в новой системе «вероятоподобия». Или, иными словами, от небывалого – к обыденному, от фантастического – к реальному путем первичной, «черновой» концептуализации новой действительности на немифологической основе.
Эта специфическая динамика сознания европейцев яснее всего обнаруживается на фоне другого пласта словесности XVI в., того, что был создан жертвами завоевания – индейцами. Все сохранившиеся индейские памятники эпохи конкисты, собранные современным мексиканским историком и антропологом Мигелем Леоном-Портильей в изданиях «Точка зрения побежденных» и «Изнанка Конкисты», свидетельствуют о том, что, в отличие от европейцев, у индейцев, уровень развития которых соответствовал примерно состоянию Древнего Египта, кризис концептуальной системы был безысходным. Непроницаемый мифологизм сознания исключал возможность его прорыва к принципиально новым способам осмысления реальности. Это относится и к философско-мировоззренческим, и к жанровым аспектам. И у ацтеков, и у майя, и у инков-кечуа в жанровом отношении фигурируют все те же образцы мифоэпических песен, хроникальных летописей, плачей, неизменным остается фонд выразительных средств. Но, что самое характерное, сознание индейцев способно воспринять «новое», свершающееся на их глазах, лишь как часть предания, которое фактически не нарушает его. Ведь индейцы мифологизировали не только неизвестные им феномены (конь, железное и огнестрельное оружие, книга…), но и сам факт появления чужеземцев и завоевание их земель. Только этим объясняются такие явления, как, скажем, «ласковые» встречи индейцами европейцев или легкие победы горстки испанцев над многократно превосходившими их силами местного населения в зоне развитых цивилизаций в Мексике, в Центральной Америке и в Перу. Для индейцев появление испанцев означало «развертывание» и реализацию либо эсхатологического мифа о конце света, либо мифа о наступлении новых времен, когда они будут подчинены пришельцам-богам.
Иными словами, в индейской культуре фактически не было никакого «зазора» между былью и преданием, и быль сразу же превращалась в часть мифа, поглощалась им. Такова ситуация на первом этапе встречи индейцев с европейцами. Впоследствии по мере христианизации индейцев и распространения среди них нового знания наблюдался симбиоз религиозных, мифологических традиций с элементарными сведениями о европейской версии мировой истории (как, например, в «Первой новой хронике и Добром правлении», 1615, Гуамана Помы де Айалы) или воспринимались разрабатывавшиеся церковью «компромиссные» версии о провиденциальном развитии истории народов Америки «навстречу» грядущей христианизации («История государства инков» Инки Гарсиласо де ла Веги).
Характерно, что и европейцы, пытаясь свести концы с концами, также обращались к индейским мифам о белых бородатых Боголюдях – так возник специфический американский христианский миф, отождествлявший Кетцалькоатля со св. Фомой, якобы крестившим индейцев. Предпринималось множество различных попыток преодолеть поразительное для европейского сознания противоречие, что в Священном Писании нет никаких упоминаний о Новом Свете. И довольно трудно сказать, что в XVI–XVII вв. перевешивало в создании картины мира и образа Нового Света – рациональное или мифологическое.
Ознакомительная версия.