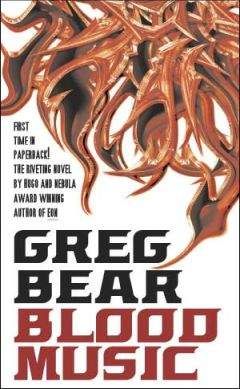Впервые в этом спектакле Гришковец оказывается на сцене не один: женщину, по-видимому также переживающую любовный роман от его возникновения до его естественной смерти, играет актриса Анна Дубровская, и ею даже был написан монолог героини. Но никакого диалога (даже непрямого) между героем и героиней не происходит: женщина всегда надежно отделена от героя стеклом. И в этом, возможно, состоит главный парадокс спектакля: несмотря на то, что речь идет о любви, все происходит только в «пространстве себя».
Любовь для героя Гришковца опять-таки синонимична исчезновению Я:
.. и вот, в состоянии любви можно взять и исчезнуть. Можно… не стать, Вот так, шел по городу, раз и исчез. А потом снова, раз, и появился. И мир весь тоже появился вокруг. А ты находишь себя сидящим на скамейке в каком-то мало знакомом месте. Ты сидишь на грязной скамейке, на которую без любви ни за что бы не сел.
Но герою Гришковца — опять-таки именно потому, что спинным мозгом он помнит о неподдельном ужасе Реального, — необходимо всегда оставаться в положении центра ситуации, не становясь Другим, а отделяя себя от Другого. Вот почему, «исчезая», герой Гришковца непрерывно звонит любимой женщине. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что не исчез окончательно. Что он ей нужен. Оказывается, она ему нужна лишь для подтверждения его центральной позиции в мироздании. Правда, любовь, понятая таким образом, обречена: ведь герой и не пробует проникнуться Другим, разрушив эту опасную границу. Поэтому возлюбленная здесь может быть лишь экраном состояний всегда центрального героя — самостоятельность и свобода ей даны только в области покупки штор и сумочек (мотив, довольно навязчиво звучащий в спектакле).
Присутствие Другого на сцене лишь подчеркивает принципиальную исключенность этого персонажа из мира героя Гришковца, что оказывается особенно поразительным в контексте декларируемой влюбленности этого героя в женщину (возможно, вот в эту — за окном). Как отмечали критики, «девушка ему совсем не нужна, поскольку она — отдельно, и он — отдельно» (Г. Заславский)[34]; «Участие в спектакле А. Дубровской отнюдь не рождает сценического дуэта. Актриса — не более чем фон, оживший элемент внешнего антуража, такой же, как упомянутые спутник или ветка дерева» (И. Алпатова)[35]; «Получается, что женщина в „Планете“, по большому счету, не нужна. Хотя Гришковец и дает ей выговорить что-то вполне личное в пятиминутном монологе, она так и остается абстракцией, девушкой за стеклом. А разговор о любви ведет все тот же единственный персонаж Гришковца, смешной, неловкий, невероятно обаятельный, но по-прежнему бесполый» (О. Зинцов)[36].
Герой Гришковца скорбит по обмелению чувств. Но при этом он даже не задумывается о том, что, может быть, его собственные представления о любви разрушительны, что, может быть, это он сам и виноват в том, что любовь лишь поначалу воспринимается как прикосновение к Реальному, а затем застывает в предсказуемой рутине… Нет, он предъявляет свой счет миру, в котором «все космически не так», и, поднимаясь над планетой, кричит странам, над которыми он пролетает: «А любви-то нет!» В этом саморазоблачительном жесте герой проецирует свое собственное поражение в любви на далекие, неизведанные страны — в чистом виде на Других.
Стремление переложить ответственность на Другого — черта невзрослого, инфантильного Я. Она прямо вытекает из попытки «редуцировать» Я для острого переживания Реального. «Ликвидация» Я, по понятным причинам, всегда оказывается проблемой сознания рефлектирующего героя Гришковца. Зато куда более эффективным и доступным выражением этого же желания становится нарциссистская ликвидация или, вернее, инструментализация Другого — именно то, что происходит с женщиной в разыгрываемом в «Планете» любовном сценарии. Как ни странно, именно превращение Другого в проекцию Я выдается Гришковцом за желанный, но недосягаемый (или досягаемый ненадолго) идеал социальной коммуникации. И в этом смысле неудача «Планеты» весьма показательна: она демонстрирует, что эта логика отношений с Другим не «работает» даже на минимальном уровне: между Я и ты. Перенесенная на «планетарный» уровень, эта риторика оборачивается натужным пафосом.
Гришковец, к сожалению, не замечает, что этот перенос ликвидации Я на Другого также имитирует механизм травмы — его субъект таким образом присваивает себе положение «офицера» с Русского острова, превращавшего любого Другого либо в ноль, в homo sacera, либо в отражение собственных комплексов. Разумеется, герой Гришковца редуцирует Другого исключительно риторически, что свидетельствует о бессознательном механизме этого процесса; но связь между травмой, нарциссизмом и риторической властью над Другим крайне характерна для особой идентичности героя Гришковца, стабильной в своей неустойчивости, самоутверждающейся в самоотрицании и социальной в декларируемой универсальности.
Еще более противоречивым выражением этой идентичности становится спектакль «Дредноуты». Ведь в этой пьесе герой Гришковца как бы припадает к источнику своей травмы — он возвращается на флот. Но флот здесь демонстративно отделен от того, что изображался в «Собаке». Гришковец в этом спектакле говорит о Первой мировой войне и, главным образом, о немецких и английских моряках. Так что травма надежно отодвинута на безопасную — не только историческую и географическую, но и, главным образом, эпическую дистанцию предания с тем, чтобы стать источником символических смыслов.
С этой безопасной дистанции Гришковец рассказывает о том, как создавались великолепные неуязвимые дредноуты — роскошные машины для убийства, которые были так прекрасны, что «для них устроили войну». А потом он — как всегда, от первого лица, непосредственно переживая и погружая зрителей в это переживание — повествует о красивых смертях. Война в его изложении становится коллективной встречей с Реальным и репрезентируется через совокупность ритуалов Танатоса. Именно героическая и самозабвенная служба Танатосу становится той абсолютной символической ценностью, которую Гришковец помещает на место зияния, оставленного травмой Русского острова. Не замечая, правда, того простого обстоятельства, что он лишь выворачивает травму наизнанку, придавая возвышенный смысл все тому же исчезновению Я, о котором он так пронзительно рассказывал в «Собаке».
Так, например, Гришковец восхищается тем, что моряки Первой мировой гибли потому, что отказывались опустить флаги своих кораблей. И добавляет:
<…> Они не опускали флагов. Потому, что никто так просто на флаги не смотрел… Это же были флаги их кораблей. А я могу так смотреть, потому что у меня нет флага моего корабля… Нету! В моих ощущениях нет той страны, ради флага которой я мог бы вот так… Ну, то есть не задумываясь о смысле и не разбираясь в целесообразности того или иного… дела. Да, да, не анализируя ситуацию, просто взять, не опустить флаг и умереть.
Однако, как помним, в конце «Собаки» сходная мысль звучала иначе — мы бы умерли, но нам не повезло: бессмысленность нашей «службы Родине» не была оправдана даже смертью. И в «Дредноутах» тоже, строго говоря, флаг ни при чем — речь идет не о флагах, а о красивой смерти, и не спущенный перед вражеским кораблем флаг важен лишь как элемент этой ритуальной «красоты» (опять легко вспомнить, какое значение имели понятия «красота» и «ритуал» в пространстве Русского острова). Апелляция к флагу нужна Гришковцу для того, чтобы подчеркнуть необходимость умереть — «не задумываясь о смысле». В «Дредноутах» он придает отсутствию смысла сакральное значение, окрашивая красивую смерть в трансцендентальные тона:
<…> Я знаю наверное, что вряд ли сам сделал бы так. Потому что у меня уже есть мое сраное высшее образование. Я уже знаю историю, понимаю разные смыслы, умею их находить или в нужной ситуации не находить. Вот окажись я у той пушки, вряд ли я нашел смысл ее наводить куда-то… Я же знаю, чем закончилась Ютландская битва и Та война, и следующая тоже… Все, в общем-то, находится на своих местах: в Англии — королева, в Германии… канцлер, немцы, поля… Я это уже успел узнать. Книжек много прочитал. Нет! В смерти того мальчика ничего хорошего не было. Это было ужасно, страшно и обидно. Но иногда нужна возможность делать что-то, не задавая вопросов, и не иметь возможности их задать.
Иначе говоря, «сраное высшее образование» мешает Гришковцу тем, что заставляет искать смысл в том, что делается с человеком. Но в случае религиозного служения (Танатосу или любому другому трансцендентальному означаемому) именно отсутствие рационально постигаемого смысла и является доказательством сакральности служения. А в случае Танатоса — стирание Я еще и подтверждает прикосновение к Реальному.