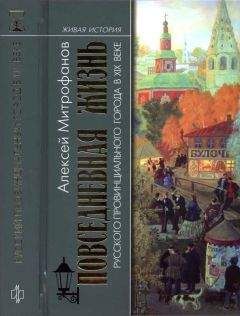Дядя такой же, как и был, но заметно поседел. По-прежнему ласков, мягок и искренен. Людмила Павловна, «радая», забыла засыпать дорогого чая и вообще находит нужным извиняться…
Что сильно бросается в глаза, так это необыкновенная ласковость детей к родителям и в отношениях друг к другу…
В 8 часов вечера дядя, его домочадцы, Ирина, собака, крысы, живущие в кладовой, кролики — все сладко спало и дрыхло. Волей-неволей пришлось самому ложиться спать. Сплю я в гостиной на диване. Диван еще не вырос, короткий по-прежнему, а потому мне приходится, укладываясь в постель, неприлично задирать ноги вверх или же спускать их на пол. Вспоминаю Прокруста и его ложе».
Если бы отец писателя не обанкротился, если бы всему семейству не пришлось прятаться в Москве от кредиторов — глядишь, не было в нашей литературе ни «Смерти чиновника», ни «Попрыгуньи», зато сам Антон Павлович жил бы всю жизнь в Таганроге, торговал бы колониальными товарами и не предъявлял бы претензий к удобной, наверное, лавочке, пусть и похожей на коробку из-под мыла.
А вот как был устроен дом модистки во Владимире: «Перед домом был небольшой палисадник с кустами шиповника и сирени и лестница в несколько ступенек, спускавшаяся к двум дверям. В одну из них мы и позвонили. Дрогнули занавески на окне второго этажа, и через несколько минут послышались быстрые спускавшиеся по лестнице шаги. Дверь открыла немолодая, очень подтянутая женщина с пристальным и необыкновенно энергичным взглядом. Поздоровавшись, она любезно повела нас по крутой лестнице в свою «святая святых» — обитель, где протекала ее жизнь и рождалось совершенно особое творчество. Так состоялось мое знакомство с «местной достопримечательностью», замечательным человеком, прекрасной портнихой Екатериной Семеновной Богдановой (в замужестве Фокиной). Это знакомство длилось много-много лет.
Поднявшись наверх, где таинство творчества рождало удивительные модели одежды, я оказалась перед дверью с портьерой из бархата болотного цвета. Легким движением отогнув портьеру, Екатерина Семеновна ввела нас в гостиную. Это была большая комната. На двух подоконниках цвели нежно-розовые альпийские фиалки. Их тончайший аромат растекался по всей гостиной. Между окнами стояло огромное трюмо в резной раме, со столиком, на котором покоилась большая пепельница, изображавшая ракушку с русалкой. Трюмо, достигавшее потолка, выглядело величественным. В зеркале отражались стены гостиной с фотографическими портретами, разными безделушками, и от этого комната казалась очень большой. Были в ней и причудливая мебель с резными изгибами ножек и подлокотников кресел, и фортепиано, на котором, как я позже узнала, играла старинные вальсы и романсы хозяйка, и большие ковры по одной из стен и на полу Какая-то особая таинственная тишина царила в гостиной. Перед иконой Николая Чудотворца мирно светилась лампадка. Время как будто остановилось, и прошлая эпоха, запутавшись в плюшевых занавесках, притаилась в углах комнаты».
Были конечно же в провинции и нарушители спокойствия. Не столько жулики и хулиганы — их злодеяния, как ни странно, вполне укладывались в тамошний жизненный уклад, — сколько интеллигенция, зачастую презиравшая «узколобых мещан». Вот, например, как был устроен боровский и калужский быт семейства Циолковских, по словам самого Константина Эдуардовича, «отца космонавтики»: «Я любил пошутить. У меня был большой воздушный насос, который отлично воспроизводил неприличные звуки. Через перегородку жили хозяева и слышали эти звуки. Жаловались жене: «Только что соберется хорошая компания, а он начнет орудовать своей поганой машиной»… У меня сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали бумажные куколки, пробивались молнией дыры, загорались огни, вертелись колеса, блистали иллюминации и светились вензеля. Толпа одновременно поражалась громовым ударам. Между прочим, я предлагал желающим попробовать ложкой невидимого варенья. Соблазнившиеся угощением получали электрический удар. Любовались и дивились на электрического осьминога, который хватал всякого своими ногами за нос или за пальцы. Волосы становились дыбом, и выскакивали искры из каждой части тела. Кошка и насекомые также избегали моих экспериментов. Надувался водородом резиновый мешок и тщательно уравновешивался посредством бумажной лодочки с песком. Как живой, он бродил из комнаты в комнату, следуя воздушным течениям, поднимаясь и опускаясь».
Как это непровинциально!
Даже такие привычные праздники, как Рождество, воспринимались в провинции особо сокровенно. Одна из представительниц семейства Суздальцевых (город Муром) вспоминала: «Нарядная елка — таинственный стук в окно Деда Мороза, которого мы никогда не видали, но слышали его голос и стук. К этому празднику мы готовились заранее. Мама покупала цветной гофрированной бумаги: красной, синей, желтой, зеленой, голубой, а однажды раздобыла даже золотой и серебряной, только не гофрированной. Под руководством неутомимой мамы мы делали игрушки сами. Хлопушки, цепи, коробочки, рог изобилия, бонбоньерки. Из картона вырезали разных зверюшек: зайца, лису, медведя — и обклеивали золотой и серебряной бумагой. У нас в детской стоял довольно большой круглый стол с ящиками. Мы все рассаживались: я, сестра Таня, брат Вова, сестра Мара, а меньшая сестренка Ася только смотрела. Правда, чтобы она нам не мешала и не плакала, мы давали ей обрезки золотой бумаги, и она тоже что-то мастерила».
А мемуарист Ф. Куприянов вспоминал о христославах в Богородске: «Быстро одеваюсь и бегу в переднюю, где на пороге в залу, на специальном коврике стоят ребятишки и поют «Христос рождается…». Двери в переднюю почти не закрываются. Одна гурьба сменяет другую. Тут и совсем малыши, которые путем и слов-то не знают, тут и организованные тройки из певчих, которые поют очень хорошо.
Стою рядом с ребятами и подпеваю им.
Ребята из певчих даже и коротенький, простенький концерт споют.
Какое оживление, какие радостные, красные от мороза лица и какие звонкие голоса; невольно и тебя поднимает на какую-то высокую ступень. Приходили совсем малыши. Начнут петь, а слов-то и не знают, тогда подходили мои старшие братья и совместно преодолевали все трудности. Как же эти ребята были довольны…
И так в течение двух-трех часов приходили замерзшие, заснеженные, радостные ребятишки и пели…
Христославы получали по три копейки, а кто рассказывал рацею — пятачок».
Будущий философ В. В. Розанов писал о своем детстве в Костроме: «Бывало, выбежишь на двор и обведешь вокруг глазами: нет, все черно в воздухе, еще ни один огонек не зажегся на колокольнях окрестных церквей! Переждешь время — и опять войдешь. — «Начинается»… Вот появились два-три-шесть-десять, больше, больше и больше огоньков на высокой колокольне Покровской церкви; оглянулся назад — горит Козьмы и Дамиана церковь; направо — зажигается церковь Алексия Божия человека. И так хорошо станет на душе. Войдешь в теплую комнату, а тут на чистой скатерти, под салфетками, благоухают кулич, пасха и красные яички. Поднесешь нос к куличу (ребенком был) — райский запах. «Как хорошо!»
И как хорошо, что есть вера, и как хорошо, что она — с куличами, пасхой, яйцами, с горящими на колокольнях плошками, а, в конце концов — и с нашей мамашей, которая теперь одевается к заутрене, и с братишками, и сестренками, и с «своим домиком». У нас был свой домик. И все это, бывало, представляешь вместе и нераздельно».
А еще провинциалы были большей частью домоседами. Вечера старались проводить не на гуляньях, не в кабаках, а дома, чтобы затем рано «тихим образом» лечь спать. В немалой мере, что греха таить, тому способствовало скверное состояние городских инфраструктур. Актер В. Н. Давыдов писал о городе Орле: «Живописный Орел мне нравился, хотя удобств в городе не было никаких. Непролазная грязь, отсутствие водопровода, газа и уборных делали жизнь не особенно привлекательной, но орловцы, видно, привыкли ко всему этому и недочетов городского благоустройства совершенно не ощущали… Общественной жизни почти не было. Здесь жители ценили домашний уют, тепло семейного очага и деревню… По домам играли в картишки, занимались разведением тирольских канареек, по вечерам любители ходили друг к другу слушать их пение, некоторые возились с цветами и любили похвастаться цветущей камелией или азалией. Все жили за ставнями, жили тепло, сытно и уютно».
И, соответственно, готовили «за ставнями» получше, чем в ином роскошном ресторане. Вот воспоминания одного архангелогородца: «В жаркой кухне мы нашли бабушку, в фартуке, с раскрасневшимся от жара лицом. Она пекла блины. Рядом с плитой на табуретке стояла большая емкость с тестом, в другой было растопленное масло. Длинный ряд маленьких чугунных сковородок с толстым дном выстроился на плите. Бабушка работала сосредоточенно, ее руки так и мелькали с одного конца к другому. На каждую сковородку наливалось немного масла, затем тесто. К тому времени, когда оно налито в последнюю сковородку, приходило время переворачивать блин на первой, а когда все были перевернуты, с первой сковородки можно было снимать готовый блин и класть его на шесток. Бабушка снова и снова повторяла все операции, пока не появлялась горка золотистых тонких блинов, не тяжелых и не жирных, а полупрозрачных и очень вкусных. Их уносили на стол и немедленно начинали есть, несколько слоев сразу. На столе — миски со сметаной, икрой, большой выбор варений из диких ягод».