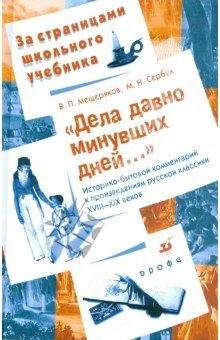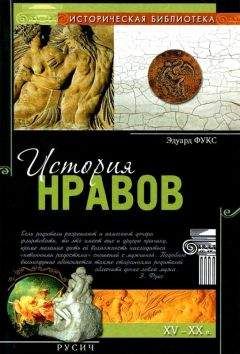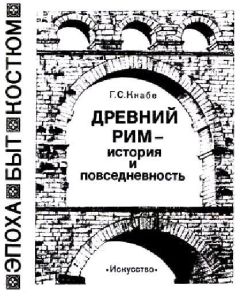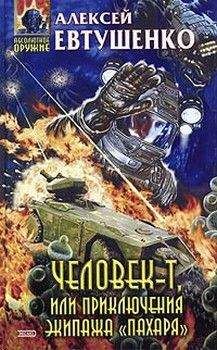Персонажи этой драмы, как и многих других произведений Островского, носят «говорящие» имена и фамилии. Рассмотрим их в том порядке, в котором они даны у Островского в списке действующих лиц.
Харита Игнатьевна Огудалова. По мнению В. Филиппова, Харитами «величали цыганок из хора, а Игнатами называли обычно в Москве каждого цыгана…».
Стало быть, мать Ларисы – из цыганок. Для такого предположения есть известные основания. И Карандышев, и Лариса сходятся на том, что в доме Огудаловой был настоящий «цыганский табор». Другими словами, Харита Игнатьевна долго не могла расстаться с бытовым укладом, к которому была приучена родителями, вплоть до привычки выклянчивать у покровителей подачки.
У имени Харита есть и другое значение. В древнегреческой мифологии Харитами называли трех богинь красоты и женской прелести, причем каждая из них олицетворяла какое-либо одно из таких качеств: Аглая – блеск, Ефросинья – радость, а Талия – цвет. Харита Островского ближе всего к Аглае. Ведь именно о внешнем лоске, об имидже семьи она заботится больше всего, не считаясь со средствами, какими это достается. А фамилия Огудалова производится от диалектного (тамбовское, вологодское, пермское) «огудать» – обольстить, провести, оплести, обмануть. Всеми этими способностями Харита Игнатьевна наделена в полной мере.
Пребывание ловкой и энергичной Хариты Игнатьевны в уездном городе скорее всего связано с ее желанием отделаться от своего прошлого. В Москве ее место в обществе было определено раз и навсегда в силу ее происхождения, а вот в провинции, где о ней ничего не знают, вдова Огудалова вполне могла сблизиться с «порядочным обществом» и принимать у себя местных тузов, искавших знакомства с ее красавицами дочерями.
Впрочем, все хитрости Хариты Игнатьевны носят лишь тактический характер, в стратегии она не сильна. Она сумела «спихнуть» двух дочерей замуж, но не слишком-то удачно, как выясняется вскоре. Старшую увез какой-то «кавказский князек», «да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер».
Лариса – чайка (греч.). В этом имени обозначен связанный с романтическим восприятием образ вольной птицы, свободно парящей над морским или речным простором. И одновременно с этим чайка – птица, деликатно выражаясь, отнюдь не из самых умных и разборчивых.
Мокий Парменыч Кнуров. Мокий – по-гречески «осмеивающий». И в отчестве персонажа также прослеживается греческий корень (Пармений – стоящий твердо). А увенчивается греческая диада чисто русской фамилией, имеющей к тому же просторечный сниженный смысл. Кнур – в курском и тверском диалектах означает «боров», «кабан», «хряк». В результате получается самодовольный, уверенный в себе боров.
У Василия Даниловича Вожеватова тоже значимы и имя, и фамилия. Василий (греч.) – царский. Вожеватый, по В. Далю, «кто умеет водиться с людьми, обходительный, вежливый, приветливый…». В деловом отношении Вожеватов обещает много, а вот что касается его «обходительности», то буфетчик, постоянно общающийся со множеством людей и по роду занятий научившийся разбираться в психологии, предсказывает, что с годами Вожеватов «такой же идол будет», как и Кнуров.
Юлий Капитонович Карандышев. И здесь каждое слово наделено определенным значением. По-видимому, родители Карандышева уповали на блестящую будущность своего отпрыска, назвав его в честь Юлия Цезаря, римского императора и полководца. Как известно, Юлию Цезарю приписывают изречение: «Пришел, увидел, победил!» Капитон – по-гречески «упрямый, настойчивый». А сочетаются имя и отчество с фамилией Карандышев. Карандыш – коротышка, недоросток. Одновременно с этим здесь присутствует намек и на незначительную должность Карандышева – мелкий чиновник с карандашом. Это своего рода автоцитата у Островского. В «Женитьбе Бальзаминова» (1861) сваха заявляет главному герою, еще более мелкой сошке, чем Карандышев: «Раз ты чиновник, то у тебя должен и карандаш быть!» Таким образом, в имени и фамилии героя уже заключена характеристика: человек мелкого калибра с большими претензиями.
Сергей Сергеевич Паратов. В. Лакшин считает, что «в фамилии героя скрестились, по-видимому, значения двух слов – «парад» и «барат». Барат – обмен товара на товар, баратерия – «обман по счетам торговли». В то же время «парадировать» – «щеголять», франтить напоказ».
С таким толкованием, особенно с первой его частью, вряд ли можно согласиться. Паратов обманывает Ларису, но отнюдь не жульничает в торговых сделках, так что «обман по счетам торговли» здесь не к месту. Тут скорее подходит другое, близкое по звучанию слово – «поратый» – бойкий, сильный, дюжий. Именно так и выглядит Паратов в глазах Ларисы да и остальных персонажей.
Мы лишь познакомились со списком действующих лиц «Бесприданницы», но благодаря их именам и фамилиям уже можем составить представление о важнейших чертах их характеров. Теперь уже дело читателя или актеров расцветить эти характеры, углубив те или иные их свойства.
Одежда и интерьер как средство психологической характеристики персонажей
Вглядимся в костюмы героев и в подробности быта, изображенного в пьесе. Вольно или невольно «…в сознании публики и театра живет некий стереотип восприятия того, что зовется «пьесой Островского». Островский? Ну, так это замоскворецкая комедия или бытовая драма, с самоваром на столе и геранью на окнах, с неторопливым действием, прописной моралью, свахами в пестрых платках, бородатыми купцами-самодурами, страдающей молодой героиней» (В. Лакшин).
Все сказанное справедливо лишь по отношению к первой половине творчества драматурга. В 1870-х годах Островский осваивает новые темы и новых героев. Купцы и жаждущие счастья девицы остались, но ведь они и в жизни не исчезали. Такие фигуры встречаются и у Д. Мамина-Сибиряка, и у М. Горького, однако едва ли их можно сравнивать с персонажами пьес Островского.
И у Островского купцы уже иные. Вот как определяется Вожеватов в ремарке «Бесприданницы»: «очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец». Ничего общего с бородатыми Кит Китычами в нем нет. Вожеватов еще не имеет собственного дела, но легко заметить, что работать на хозяина он будет недолго. Вожеватов уже покупает собственный пароход и знает, как его выгодно использовать («…отправлю его вниз за грузом…»).
Ничего не осталось в Вожеватове и от тех Подхалюзиных («Свои люди – сочтемся!»), что всеми средствами угождали хозяину, а при первой возможности грубо и бесцеремонно облапошивали его. В манере обращения с Кнуровым у Вожеватова много почтительности и внимательности, однако грубой лестью и демонстративным смирением он не грешит. Когда будет нужно, Вожеватов и с Кнуровым твердо проведет «свою линию», не впадая в хамство. С нижестоящими он пока тоже прост в обращении, хотя «держать дистанцию» уже умеет. Вспомним еще раз реплику немало повидавшего на своем векубуфетчика: «Василий Данилыч еще молод; малодушеством занимается; еще мало себя понимает; а в лета войдет, такой же идол будет». И он оказывается прав. С Робинзоном Вожеватов обходится самым бесцеремонным образом.
Одет Вожеватов, как сказано, «по-европейски». Что это значило в конце 1870-х годов? «Пиджачный костюм был самой обычной одеждой молодых людей всех сословий и во всех городах. Носили его и люди средних лет, если положение, занимаемое ими в деловом мире, не требовало более солидного костюма, каким считался костюм с сюртуком. Большинство молодых людей, не принадлежащих к «золотой молодежи» и не служивших в некоторых крупных коммерческих предприятиях, надевало сюртук лишь в исключительных случаях, например, на званый вечер, для официального визита». [71]
Сюртук давно уже исчез. Чем же он отличался от пиджака? Можно сказать, что пиджак – это укороченный сюртук, полы которого опускались ниже колен, так что, садясь, приходилось их подбирать.
Обычный костюм состоял из пиджака, обязательного к нему жилета и брюк. Как правило, шилось все это из одной материи, но мода позволяла и некоторые отступления от правил, хотя общепринятый стандарт оставлял весьма ограниченные возможности для проявления индивидуальности. Так, можно было носить жилет из другой материи и более яркий, а брюки – полосатые или клетчатые.
Пиджак тогда застегивался высоко, и жилет под него полагался маловырезанный. Брюки не имели отворотов, не было на поясе и петелек для ремня – их стягивали сзади пряжкой. Не имелось на брюках и «стрелки», их не принято было заглаживать. Если появление на людях требовало официоза, то к сюртуку (но не к пиджаку!) полагались одноцветные, чаще всего черные брюки с нашитым узким черным лампасом. Лампасы изредка делали и в тон брюкам.