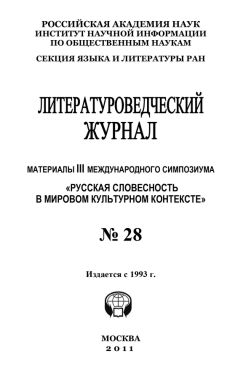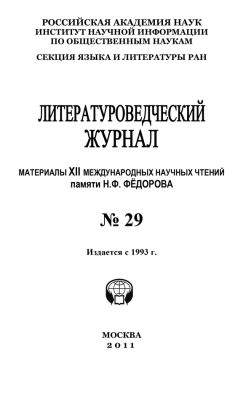Ознакомительная версия.
Неоплатоническая идея о возможности для человека встретить на своем жизненном пути множество сродственных и симпатических душ легла в основу мифопоэтической картины мира в анакреонтике Державина. Он выступил поэтом-демиургом, сотворившим особое, замкнутое художественное пространство, густо населенное языческими богами и божествами, античными героями и обычными людьми. Конечно же, обилие мифологических образов неизбежно привнесло в изображаемый Державиным микрокосм элемент условности и идеальности. Вместе с тем их присутствие в тексте обусловливалось не исключительно орнаментальными функциями, но было вполне оправдано эстетически и концептуально. Мифологические персонажи выступали чаще всего в качестве своеобразных первообразов, задававших ту парадигму художественных аксиологических установок, которые придавали целостность и завершенность нерасчлененному миру державинской анакреонтики, миру торжествующей Красоты и Любви.
Неоплатонические концепты «сродственности» и «симпатии» получили оригинальное художественное преломление в композиционной компановке, последовательном выстраивании текстового материала внутри державинского сборника анакреонтических песен. Знаковый смысл приобрел в этой связи принцип структурного соположения стихотворений, «сродственных» по мотивно-тематическому признаку. Поясню высказанную мысль подробнее.
В сборнике Державина отдельно представлены авторские переложения од II («К женщинам») и III («Купидон») из анакреонтеи; вместе с тем заимствованные из них мотивы развернуты в самостоятельные лирические темы стихотворений «На пастуший балет» и «Мечта». Показательно также, что в анакреонтической песне «На пастушеский балет» обыграны различные мотивы еще трех од из анакреонтеи – VII, XIV и XV, причем два последних первоисточника подвергались автономной семантической трансформации (в стихотворениях «Бой» и «Деревенская жизнь» соответственно). Аналогичным образом, существование отдельного переложения анакреонтической фабулы XXVI – пьесы «Хмель» – не помешало Державину актуализировать тематические предикаты од XV и XXVI из анакреонтеи в послании «К самому себе». И, наконец, еще один ряд примеров: некоторые мотивы оды XXX использовались Державиным в миниатюрах «Спящий Эрот», «Цепи», «Пленник»; оды XLIII – в пьесах «Бабочка» и «Кузнечик». Как объяснить отмеченные выше факты?
Неоплатоническая философема стала той надежной скрепой, которая обеспечила устойчивость сюжетно-композиционной структуры сборника «Анакреонтических песен» Державина и придала ему концептуальное единство. Созданный поэтом анакреонтический образ мира претендовал на известную системность и упорядоченность, он был насквозь пронизан соответствиями, перекличками и аналогиями. Этот мир симпатических душ населяли не только античные божества и герои, но и смертные люди. Однако к ним нельзя было применить банальную формулу «простые смертные», потому что все они без исключения отличались любвеобильностью и жизнелюбием, душевной щедростью и талантливостью, творческой одаренностью и – главное – «неистовостью» в платоновском смысле этого слова. В поэзии Державина стала постепенно складываться индивидуально-творческая художественная модель бытия как идеального царства внутренне сродственных друг другу людей, совершенных душой и телом.
Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что неоплатоническая философия Виланда принимала деятельное участие в творческом самоопределении Державина, вырабатывавшего те опорные нравственно-эстетические принципы, которые легли в основание поэтической картины мира, созданной в его анакреонтике.
ШИШКОВ И КАРАМЗИН В СПОРЕ О СУДЬБАХ РОССИИ
М. Альтшуллер
Карамзин родился на двенадцать лет позже Шишкова (соответственно в 1766 и в 1754) и умер на пятнадцать лет раньше (в 1826, а Шишков – в 1841). Таким образом, общая часть их активной жизни пришлась на годы от Французской революции до восстания декабристов. В России сменилось четыре государя. Это было время и больших надежд, и страхов, и разочарований.
В 1784 г. Шишков опубликовал небольшое стихотворение (32 строки) «Старое и новое время». Оно имело успех, и Шишков несколько раз перепечатывал его, постепенно увеличивая размер, довел его с двух строф до восьми (1789, 1804)1. Стихи были программными для автора. В них постулировался тезис: стaрое всегда лучше нового, все изменения ведут только к ухудшению нравов, культуры, обычаев: в старину люди не лгали, супруги не изменяли друг другу, даже (по смыслу стихотворения в допетровской Руси!)
Текли сладчайши реки
И прозы и стихов
Из авторский голов 2.
На этой позиции, разумеется, на гораздо более серьезном уровне Шишков оставался до конца жизни.
И приблизительно в то же самое время (1789–1790) странствующий Карамзин с доброжелательным любопытством и живым интересом наблюдает за событиями в революционной Франции, на столетия вперед определившими общественное развитие Европы, включая Россию: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в национальном собрании, восхищается талантами Mирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора»3. Революция во Франции совершается пока на удивление мирно. Еще достаточно далеко до ужасов якобинского террора. Однако уже тогда (может быть, оформлено и сформулировано это было несколько позже) зарождается в уме молодого прогрессиста важнейший постулат всех его позднейших историософских размышлений: «…другие идеи и новые образы теснятся в моем уме: достаточно ли прочны сооружения, воздвигаемые с излишней поспешностью? Шествие Природы не является ли всегда постепенным и медленным <курсив мой. – М.А.>? Блистательная иррегулярность может ли быть устойчивой и прочной?»4
Для молодого Карамзина любое государственное устройство, в отличие от беспорядочной звероподобной стаи, есть уже благо. «Общественный договор», вступая в силу, пройдя испытание временем, обрастая традициями и преданиями, должен всячески охраняться и почитаться гражданами, в этом обществе живущими: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку»5. Однако это не означает, что человек не должен стремится к усовершенствованию, улучшению и самого себя и общественных отношений: «Утопия (Или Царство щастия сочинения Моруса) будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. …Всякия же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот»6. В геополитических размышлениях Карамзина эта мысль всегда была важнейшей. Гармония общественного устройства в принципе достижима (так казалось ему в молодые годы), но только если движение к ней будет осуществляться медленно, безопасно, неприметно.
Пока Карамзин думал, что Французская революция сможет развиваться по подобной модели, он относился к ней с доброжелательным вниманием. С умилением смотрит он на королевскую чету в придворной церкви или играющего дофина в Тюльери. «Народ любит еще <курсив мой. – М.А.> кровь царскую»7, и поэтому сохраняется еще надежда на медленное, бескровное решение социальных и политических проблем.
Надежды эти в значительной степени угасли к середине 1790-х годов. Как всякий нормальный человек, Карамзин не мог не испытать ужаса и отвращения от кровавой вакханалии якобинского террора, охватившего Францию. Естественно, было и ощущение горечи и глубокий пессимизм, так как мясорубкой 1793 г. достаточно неожиданно завершилось торжество просветительских идей, с которого Французская революция начиналась. Как хорошо известно, эти настроения нашли выражения в знаменитом очерке, письмах Филалета и Мелодора: «Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю тебя!..» Единственное утешение, которое может предложитъ своему разочарованному другу Филалет – вера в Провидение, в то, что мир не вращается по замкнутому зловещему кругу, а как-то развивается, но пути этого развития, начертанные Творцом, не доступны человеческому разуму8. Общий вывод остается, таким образом, достаточно пессимистическим. И подобный пессимизм Карамзин, в общем, сохранил до конца жизни.
Шишков тоже был утопистом и тоже, в гораздо большей степени, чем Карамзин, надеялся на воплощение своих утопий. Он скорее был оптимистом в своих историософских построениях. В отличие от Карамзина, его утопии лежали не в будущем, а в прошлом. При этом (во всяком случае, теоретически) Шишков считал возвращение в прошлое возможным. В 1803 г. он выпустил свою знаменитую книгу «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка». Мне уже приходилось говорить, что, вопреки мнению современников и таких замечательных ученых, как Ю.Н. Тынянов, книга эта трактовала не только и, может быть, не столько вопросы языка и литературы, сколько рассматривала важнейшие проблемы общественной и политической жизни начала ХIХ в.9.
Ознакомительная версия.