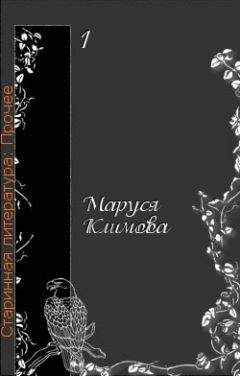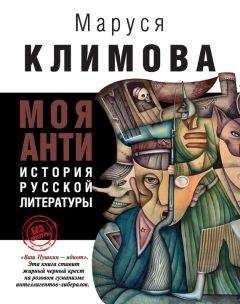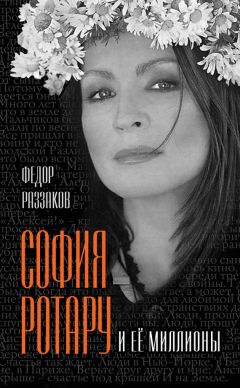То есть я хочу сказать, что все они не дотягивают даже до конца столетия, не то что до конца какой-нибудь очередной Цивилизации. Ибо все относительно в этом самом комичном из миров, и никакой другой Вечности, кроме Вечности, нет, а гений, видимо, представитель Вечности в этой жизни. Последним примером такого рода «удачи» в русской литературе был, кажется, Бродский, хотя я в этой обобщенной зарисовке вовсе не имела в виду именно его. О Пушкине мы уже говорили. Поэтому более или менее искушенный в подобного рода забавах пловец не спешит оказаться на гребне волны: он предпочитает некоторое время побыть в одиночестве, «под ним струя светлей лазури», а он, мятежный, поначалу ходит в бассейн и тренируется: мало ли, пригодится… Такое поведение «пловца», точнее, писателя, раз уж мы говорим о литературе, сразу же настораживает некоторых его коллег и товарищей. А не метит ли этот чудик в гении, причем в такие, которых потом, в отличие от тех же Бродского и Пушкина, например, будет очень трудно задвинуть?
Товарищи и коллеги сначала уговаривают упрямца быть таким же, как все, потом сердятся, и в конце концов начинают всячески преследовать его и стараются утопить, лучше всего прямо в бассейне, пока он не выплыл в открытое море, тогда за ним будет уже очень трудно угнаться. Если же кандидат в гении от них все-таки ускользает и бросается вплавь в открытое море, то остальные, понимая, что натренированного ими самими пловца догнать уже, видимо, не удастся, начинают вешать на него всяческих собак, лишают его средств к существованию, терзают, преследуют, обвиняют во всех смертных грехах, стараясь отправить его на дно уже таким образом, чтобы он надорвался и захлебнулся еще при жизни, и тогда другим неповадно будет: наученные этим примером остальные писатели и потомки впредь будут вести себя повнимательней и поосторожней. Однако эти «остальные» не понимают, что тем самым только облегчают беглецу плаванье, ибо чем меньше за него будут потом цепляться всевозможные «друзья и товарищи», тем дольше он сможет продержаться «на поверхности». Sub specie aeternitatis опять-таки.
Более того, в результате всей этой возни люди, в конце концов, сами того не желая, могут натренировать такого пловца, которого хватит по крайней мере до конца очередной Цивилизации. Причем натренировать прямо тут, в бассейне, каковым с точки зрения все той же Вечности и является литература.
Однако мне кажется, мы несколько отвлеклись от темы. Я же вроде как начала говорить про Достоевского и его взаимоотношения с Белинским.
В детстве, помню, мне очень нравился Достоевский, и я искренне упивалась чтением его книг. Мы с детства все воспитаны на Достоевском, у нас мозги у всех просто нафаршированы Достоевским, он уже торчит из носу и из ушей, особенно у тех, кто живет в Питере, да и у всех прочих тоже. Ведь это Достоевский описал основные свойства загадочной русской души! И действительно, Достоевский — это очень сильнодействующее средство; я бы отнесла его к психотропным препаратам, типа циклодола, вызывающего глюки: если читать его регулярно с самого детства, то психика у тебя сформируется определенным образом, и потом выправить ее будет очень сложно, практически невозможно. Поэтому читать Достоевского нужно точно так же, как применять сильнодействующие препараты — небольшими дозами и крайне осторожно.
Особенно внимательно я бы отнеслась к преподаванию Достоевского в школах: может, там его изучать рановато? В вузах — другое дело. Ведь не проходят же в школах маркиза де Сада, к примеру, хотя этот писатель, по сути, гораздо более безобиден.
Кстати, только недавно до меня, кажется, дошло, почему именно роман «Преступление и наказание» входил в программу советских школ. Думаю, главной причиной здесь было желание воспитать советских людей так, чтобы они всегда и во всем признавались. Сделал что-нибудь не то (или если тебе просто кажется, что это не то) — выйди на площадь, встань на колени, поцелуй землю и покайся. Достоевский здесь попал, можно сказать, прямо «в яблочко».
Всем же изначально ясно, что нельзя делать что-то плохое, противозаконное, потому что потом ты не сможешь ни пить, ни есть, ни спать — вообще жить не сможешь; а уж если, не дай бог, сделал, то выйди на площадь и покайся, ведь все равно тебя разоблачат, вернее, ты сам себя разоблачишь, потому что у тебя на лице будет вечно видна каинова печать. Очевидно, такова была мечта советских правоохранительных органов: проворовавшийся директор Елисеевского магазина, чиновник-взяточник, совратитель несовершеннолетних, фарцовщик, спекулянт, валютчик и тем более убийца выходят на площадь, бьют себя в грудь и каются. Неплохая идея!
Однако в школе я Достоевского очень любила и много его читала, мы с подругами даже обошли все памятные места, то есть нашли дома, где жили Раскольников, Сонечка, Свидригайлов и князь Мышкин, короче, совершенно реально видели все эти трущобы, где и разворачивалось действие романов Достоевского. Надо сказать, атмосфера там осталась точно такая же, ничего не изменилось. Мы позвонили в квартиру, где якобы жила Сонечка, желая еще сильнее проникнуться колоритом этих мест, — оттуда выскочила какая-то тощая баба с желтым лицом в грязном халате, со свисавшими сосульками волосами и, увидев нас, тут же в ужасе захлопнула дверь. А в соседнюю квартиру в это время заходил жирный грузин, он с интересом на нас уставился и стал о чем-то расспрашивать, но мы с ним говорить не захотели, и так уже все было ясно. Даже тот забор и камень, под которым Раскольников спрятал награбленное, и то остались на своих местах, во всяком случае, я это точно помню. Мы даже обошли этот камень вокруг и попытались его приподнять, но там ничего не было, только вокруг в изобилии валялись пивные пробки и сильно пахло мочой. Впрочем, этот запах доминировал практически во всех местах Достоевского, которые мы посетили, — такой своего рода фирменный стиль. Помню, когда я ездила с отцом в Москву, по собственной инициативе даже отправилась в музей Достоевского, ведь родился-то он в Москве. Но там оказался какой-то маленький убогий музейчик, который мне сильно не понравился. То ли дело у нас в Ленинграде, тогда подумала я: там воссоздана атмосфера настоящей квартиры Достоевского, просто как будто попадаешь в его мир, сразу чувствуешь настроение его героев, проникаешься им; действует как наркотик, даже голова начинает кружиться.
Нет, конечно же, не Достоевский сделал русских людей настоящими мазохистами, они уже и до этого такими были, — он просто усилил эти настроения, придал им такой невероятный размах, такой полет кайфа, довел их до такого безумного совершенства, что все, дальше уже некуда идти, дальше полный тупик. Разве нормальные здоровые люди будут воображать себя князем Мышкиным, Настасьей Филипповной, Раскольниковым, Рогожиным, Митей Карамазовым — да они должны, как черт от ладана, бежать от самой идеи, от самих очертаний этих персонажей, не говоря уже об их сути. Жизненный инстинкт должен удерживать их на расстоянии от всех этих жутких бездн, откуда они вообще могут никогда не выбраться, если, не дай бог, их угораздит туда провалиться. Это свойство русских очень точно подметил Селин во время своего визита в Ленинград в 1936 году. Кстати, в качестве типичного русского Селин (он же «доктор Детуш», то есть по специальности врач) упоминает именно Раскольникова, ссылаясь на Достоевского и описанные в его романах болезненные настроения. В последнее время мне все больше кажется, что этот визит Селина в СССР безо всякого преувеличения можно было бы назвать визитом врача в страну психически больных.
И тем не менее почему-то очень часто зажравшихся обывателей, в том числе и западных, как магнитом прямо-таки влечет в эти опасные таинственные неизведанные области. Помню, в Берлине я попала на представление какого-то русского театра: кажется, безработные русские актеры сделали небольшой спектакль по мотивам Есенина, и высокий здоровенный мужик в цилиндре, эффектно встряхивая своими длинными сальными волосами, с выражением читал поэму «Черный человек». Представление проходило в обществе дружбы «Россия-Германия», раньше во всех западных странах существовали такие общества дружбы, теперь они уже, кажется, исчезли или переделаны в какие-нибудь другие организации, но тогда в Берлине в самом конце перестройки все еще оставалось на своих местах: советские чиновники в костюмах и галстуках, с такими одинаковыми серыми лицами и бледно-голубыми глазами по привычке сидели в первых рядах и внимательно наблюдали за происходившим на сцене, а в зале было полно разных немцев, славистов, русских тоже хватало — и эмигрантов, и просто туристов. Меня пригласила на это мероприятие моя болгарская подруга Мариэла, которая жила в Берлине со своим немецким мужем, настройщиком роялей. Мариэла, как и все болгары тогда, очень любила русских и все русское; сейчас, боюсь, это уже далеко не так. Так вот, мы тогда сидели с ней и смотрели на сцену. Главным героем, безусловно, был высокий актер с длинными волосами, к концу спектакля он уже весь истекал потом, потому что очень много бегал туда-сюда по сцене, прыгал и даже пару раз упал и покатался по пыльной сцене, — видимо, он был в ударе. Сидевшая рядом со мной тощая немка с лихорадочно блестящими глазами и расширенными зрачками так дергалась и подпрыгивала на стуле, что сотрясала весь ряд, кажется, она с трудом могла усидеть на месте. Когда же представление закончилось, она вскочила с места и с воплями: «Рогожин! Рогожин!» — напролом бросилась к сцене, потрясая букетом красных роз, который впихнула актеру и повисла у него на шее. Актер осторожно высвободился, поблагодарил и, пятясь задом, удалился за кулисы. Потом состоялся небольшой фуршет, актеры тоже принимали в нем участие, уже умытые, причесанные и переодетые, а моя соседка-немка, вцепившись в бутылку водки и периодически отхлебывая из горлышка, не сводила безумного взгляда со своего героя и периодически шептала себе под нос с сильным акцентом: «О! Рогожин! Рогожин!» Она все пыталась подобраться поближе к своему кумиру, потом, кажется, он с ней вполне приветливо заговорил, и они удалились вместе под ручку в обнимку с бутылкой водки. Вот каким роковым образом подействовал роман «Идиот» на психику, а возможно, и на всю дальнейшую жизнь несчастной немецкой бюргерши.