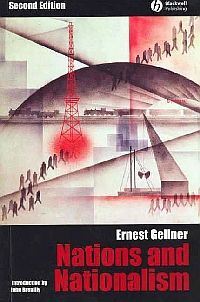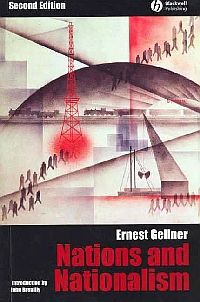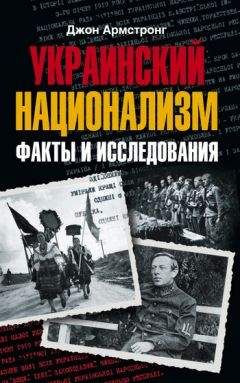При традиционном социальном строе языки охоты, жатвы, различных обрядов, ратуши, кухни или гарема образуют автономные системы. Сопоставление терминологий этих несоотносимых сфер, выявление расхождений между ними, попытка их унифицировать — все это было бы нарушением социальных законов или еще хуже — кощунством или святотатством — и не имело бы под собой никакой почвы. Напротив, в нашем обществе принято считать, что все ситуативные употребления языка относятся к единому, неделимому миру и входят в единую целостную систему и что можно с полным основанием связывать их друг с другом. "Связывать во что бы то ни стало" — это понятная и вполне реальная идея. Современные философии знания часто представляют собой выражение и кодификацию этой идеи и стремления, которые в свою очередь не являются философской причудой, но имеют глубокие социальные корни.
Уравнивание и гомогенизация явлений будут неполными, если они не сопровождаются тем, что можно назвать расчленением всего расчленимого, esprit d'analyse, разделением всех сложных структур на составные части (даже если это можно проделать только мысленно) и нежеланием признавать готовые наборы понятий. Именно устанавливая связь вещей, традиционные мировоззрения увековечивают себя и все свои предрассудки. Настаивая на разрыве этих связей, мы освобождаемся от них. Эти готовые наборы понятий и ограниченные понятийные пространства являются эквивалентами в сфере идей устойчивых социальных группировок и структур в жизненной сфере. Так же как унифицированный и стандартизированный, как бы вымеренный одной мерой мир явлений, каким он представлен в философских учениях Юма и Канта, аналогичен миру анонимных и равных объединений людей в огромном обществе. В настоящем исследовании нас больше занимают люди и их группировки, чем идеи, но объединение идей в непрерывные целостные системы связано с перегруппировкой людей во внутренне неустойчивые, культурно неограниченные сообщества.
Индустриальное общество — единственное общество, которое основывает свое существование на непрерывном и неуклонном росте, на рассчитанном и безостановочном совершенствовании. Не удивительно, что это первое общество, породившее идею и идеал прогресса, постоянного движения вперед. Излюбленный способ социального контроля в таком обществе — поголовный подкуп, материальное вознаграждение за отказ от социальной агрессии. Его самая большая слабость — неспособность выдержать даже временное сокращение фонда для такого социального подкупа и пережить утрату законности, которая постигает его, если рог изобилия временно закрывается и поток иссякает. Многие общества и раньше время от времени вводили что-то новое и совершенствовались; иногда даже случалось, что новшества проникали в них не поодиночке, а целыми легионами. Но совершенствование никогда не было постоянным, и этого никто не ждал. Должно было произойти нечто исключительное, чтобы такое необычное и замечательное ожидание стало возможным.
И в самом деле произошло нечто из ряда вон выходящее, нечто уникальное. Представление о мире как о гомогенной, подчиняющейся всеобщим законам и представляющей необъятное поле для исследований системе открыло возможность бесконечного комбинирования средств без заранее установленных результатов и границ: ни одна возможность не исключается, и в конечном счете лишь опыт определяет, что представляют из себя вещи и как их следует комбинировать, чтобы достичь желаемого. Это был принципиально новый взгляд. Старые миры были, с одной стороны, каждый в отдельности, вселенными, служащими определенной цели, иерархическими, «значимыми»; и с другой стороны — не совсем целостными, состоящими из субмиров со своим языком и законами, не включенными в единый мировой порядок. Новый мир был, с одной стороны, нравственно нейтральным, а с другой — целостным.
Философия Юма — одна из наиболее важных кодификаций этого представления. Ее самая известная часть — теория причинности, которая вытекает из целостного видения мира и является его важнейшим достижением. То, к чему она в конечном счете сводится, можно сформулировать так: в самой природе вещей нет, по существу, никаких связей. Действительные связи этого мира можно установить, лишь мысленно расчленив все, что поддается такому расчленению, как бы выделив чистые элементы и проверив на опыте, что с чем сочетается.
Действительно ли мир таков? Наш мир — да. Это непременное условие, цена «мира бесконечных открытий». Исследование не должно быть стеснено природными связями и отношениями вещей, зафиксированными в тех или иных представлениях или образе жизни. И конечно, юмовская концепция причинности — это не просто превосходный эскиз картины, перед которой стоит свободный и вечный исследователь. Это также объяснение поведения его экономического двойника, современного предпринимателя. Слияние труда, техники, материала и формы, предписанное обычаями, подчиненное социальному порядку и ритму, — не для торговца и фабриканта века разума. Его успехи и прогресс экономики, частью которой он является, зависят от неограниченности выбора средств, только на основании опыта, для достижения какой-либо определенной цели — такой, как максимальное увеличение дохода.
Его предшественнику или даже его еще не окончательно вытесненному современнику-феодалу стоит немалого труда вычленить один-единственный критерий успеха. Доход для него неотделим от целого ряда привходящих моментов, таких как, например, сохранение престижа в обществе. Адам Смит слишком хорошо видел разницу между горожанином Глазго и, скажем, Камероном из Лохиеля [3]. Юмовская теория причинности отражает мировосприятие первого.
Этот взгляд на общество, оказавшееся в зависимости от научного и экономического прогресса (безусловно связанных друг с другом), привлек наше внимание потому, что нас прежде всего интересуют последствия этого безостановочного прогресса, этого непрерывного роста. А последствия этого роста поразительно перекликаются с мировоззрением, которое лежало в его основе.
ОБЩЕСТВО НЕУКЛОННОГО РОСТА
Если предпосылкой научного прогресса является убеждение, что ни один элемент не связан заведомо нерасторжимыми узами с другими элементами и что все поддается переоценке, значит, экономический и технический прогресс требует такого же пересмотра человеческой деятельности и, следовательно, человеческих ролей. Роли становятся незакрепленными и активными. Прежняя стабильность структуры просто несовместима с ростом и обновлением. Обновление означает производство новых вещей, границы которого не совпадают с границами вытесненных им видов деятельности. Нет сомнения, что в большинстве обществ могут иметь место отдельные случаи смещения профессиональных и производственных границ, так же как в футбольной команде могут делаться перестановки, не нарушающие ее целостности. Одна перемена не делает прогресса. Но что произойдет, когда такие перемены станут постоянными и непрерывными, когда настойчивая необходимость смены занятий станет неотъемлемой чертой социального строя?
Когда мы сумеем ответить на этот вопрос, проблема национализма, по существу, будет решена. Корни национализма — в определенном типе разделения труда, очень сложном и к тому же бесконечно, беспредельно изменчивом.
Высокая производительность требует, что особенно подчеркивал Адам Смит [4], сложного и очень детального разделения труда. Постоянно растущая производительность требует, чтобы это разделение было не только сложным, но также постоянно и часто очень быстро меняющимся. Эта быстрая и непрерывная смена как всей системы экономических ролей, так и позиций внутри нее определенно приводит к немедленным и чрезвычайно важным последствиям. Люди, существующие в этой системе, обычно не имеют возможности сидеть на одних и тех же нагретых местечках всю свою жизнь и лишь в редких случаях могут оставаться на них из поколения в поколение. Должности редко (по той или иной причине) переходят от отца к сыну. Адам Смит подметил превратность человеческих судеб в буржуазном обществе, хотя он ошибочно приписал стабильность социального статуса скотоводам, принимая их родовые предания за действительность. Непосредственным следствием этого нового вида мобильности становится своеобразный эгалитаризм. Современное общество мобильно, потому что оно эгалитарно; оно эгалитарно, потому что мобильно. Более того, оно должно быть мобильным, желает того или нет, потому что этого требует удовлетворение страшной, непреодолимой жажды экономического роста.
Общество, которому предназначено судьбой без конца играть в музыкальные стулья, не может возводить высоких барьеров чина, касты или сословия между различными рядами имеющихся в его распоряжении стульев. Это затруднило бы движение и, не приостановив его совсем, только создало бы невыносимую ситуацию. Человек может терпеть чудовищное неравенство, если оно утверждено и освящено законом. Катящийся камень не обрастает паутиной, и мобильное общество не позволяет опутать паутиной собственное расслоение. Расслоение и неравенство продолжают существовать, и иногда в крайних формах. Тем не менее они приглушены, затушеваны и как бы смягчены плавностью переходов от ступени к ступени благосостояния и положения, отсутствием социальной дистанции и конвергенцией жизненных стилей, своего рода незапланированностью или случайным характером различий (в противоположность жестким, абсолютизированным, непреодолимым различиям, характерным для аграрного общества) и иллюзией или реальностью социальной мобильности. Эта иллюзия обязательна, и она не может поддерживаться, если в ней нет хотя бы доли реальности. Какая доля реальности стоит за этой видимостью движения вверх и вниз, зависит от разных обстоятельств, и на этот счет нет единого мнения. Но не может быть сомнений в том, что эта доля довольно значительна. Когда так сильно меняется сама система ролей, исполнители этих ролей уже не могут, как утверждают левые социологи, быть связаны с жесткой сословной системой. В сравнении с аграрным обществом новое общество мобильно и эгалитарно.