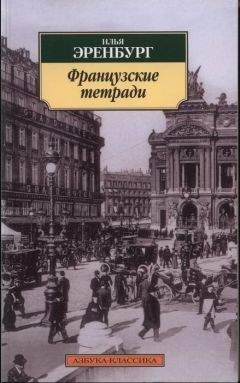В отдыхе больше всего сказывается народный характер. Некоторые туристы, попав ночью на площадь Пигаль, где английский язык слышишь чаще, чем французский, решают, что французы любят кутить, любят ослепляющие вывески, грохот музыки. Есть на свете множество мифов: о мнимом мистицизме русских, о воображаемой умеренности немцев. Есть миф и о развратных французах, о Париже, который будто бы является «новым Вавилоном». А Франция рано ложится спать; в одиннадцать часов вечера видишь мало освещенных окон. Для огромного большинства французов воскресный отдых — это рыбная ловля, прогулка в лес, уход за садиком. Нигде, кажется, так страстно не относятся к цветам. Цветы продаются повсюду — и в бедных пригородах, и у заводских ворот. Огромные рынки отведены под цветочную рассаду, под кусты и деревья. В любом маленьком городе сотни маленьких кафе и ресторанов — «бистро», там друзья за стаканом вина спорят или шутят. Народ, перерезавший не раз улицы баррикадами, знает, что мостовые могут превращаться в танцевальные залы и что уличные скамейки под тенистыми каштанами созданы для влюбленных.
Я очень редко встречал во французской книге сомнения в ценности и смысле жизни, но не раз, читая книгу французского автора, задумывался: какая жизнь может быть названа достойной человека? Эти сомнения равно относились и к законам государства, и к законам сердца. Французская литература показала миру все значение общественных проблем, но никогда она не отрекалась от признания человеческого достоинства. Мне кажется, что ее мораль — плод веков и веков — может быть выражена одной мыслью: человек живет в обществе, все общественное непосредственно его затрагивает, он связан с товарищами, с соотечественниками, с человечеством, но, стремясь улучшить, облагородить, обновить общество, он ни на минуту не забывает, что не он создан для субботы, а суббота создана для него.
3
Может быть, легче всего понять отличительные черты французской культуры, оглянувшись на те далекие времена, когда в Западной Европе, разоренной, суеверной, вдоволь обнищавшей и одичавшей, зарождалась городская жизнь.
Мы часто несправедливы к XII–XIII векам. Когда мы входим в готический собор, в нашем сознании его полумрак смешивается с мраком смутного Средневековья, даже с мракобесием — с инквизицией, с астрологией, с алхимией. (Само слово «готика» сбивает с толку. Конечно, готы соборов в Шартре или Реймсе не строили; название «готика» было придумано итальянцами эпохи Возрождения, которые, отталкиваясь от средневековой архитектуры, окрестили ее презрительно готической, ибо готы, некогда разорившие Италию, оставили по себе недобрую память.)
Иногда говорят о «чуде Возрождения». История не знает чудес. Необычайный расцвет науки, литературы, искусств в XV и XVI веках был связан с новыми социальными условиями в странах Западной Европы. Однако многое подготовлялось предшествующими столетиями. В XII веке французы как бы открыли античную культуру. Разумеется, эта культура продолжала тогда теплиться в Византии. Но Западная Европа была отрезана от Византии страхом византийских императоров и духовенства перед общением с Западом. Идеи древних греков пришли во Францию сложным путем — через арабов и евреев, живших в Испании, через Авиценну и Маймонида. Передовые французы зачитывались Аристотелем и Платоном, Горацием и Вергилием. Поэт Пьер Блуа писал: «Как карлики мы на плечах у древних и видим дальше их лишь потому, что видели они…» Строились огромные соборы в Париже, в Шартре, в Реймсе, в других городах Франции: первая эпидемия высотных зданий. Предшествующая, так называемая романская архитектура была приземистой, сельской. В городах потребовались большие высокие здания. Романтикам готические соборы казались полными мистицизма, они видели в стрельчатом зодчестве стремление людей подняться к небесам. На самом деле готика была потрясающей победой разума, и зодчие XII века могут рассматриваться и как художники, и как инженеры, разрешавшие сложнейшие проблемы строительства. Соборы предназначались не только для церковных служб, в них читали лекции студентам, устраивали театральные представления, даже маскарады; в соборе Парижской Богоматери заседали Генеральные штаты — парламент. Соборы были общественными зданиями, и в их строительстве были заинтересованы все горожане. Архитекторы не только не искали таинственного мрака, они стремились сделать соборы наиболее светлыми. Скульптура, украшавшая порталы, была каменной энциклопедией, первой библиотекой для неграмотных, вдохновенным изображением суммы познаний; здесь были изображения времен года, искусств и наук, различных ремесел, радостей народа и его бедствий; сцены из Священной истории переходили в летопись подлинных событий, а химеры соседствовали с современниками, служившими моделями скульптору. В искусстве окраски стекла — густо-красного, сапфирового, изумрудного, служившего для витражей, — впервые нашло выражение чувство цвета, предвещая близкое торжество живописи. Готика была не смятением духа, но победой разума, ясности, света.
С потрясающей быстротой новая архитектура увлекла другие страны. Готику в те времена называли «французским зодчеством». Англичане звали французов для постройки Кентерберийского собора, шведы — в Упсалу и Висби, датчане — в Роксфильд, немцы — в Вимпорен. Французы построили собор Святого Вита в Праге, церковь миноритов в Вене. На несколько веков готика стала стилем Европы. Постепенно она начала вырождаться, приняла характер болезненный, почти истерический. Стиль, как то бывало не раз в истории искусств, уступил место стилизации. (Забавно отметить, что Кельнский собор, который многим туристам кажется шедевром готики, построен фактически в прошлом веке и поражает подменой стиля искусственной сложностью деталей.)
Одновременно с архитектурой поэзия Франции вдохновляла в те века многие народы Европы. Эта поэзия была лиричной и повествовательной, она раскрывала сердца и давала познания, говорила о мужестве и о свободе, высмеивала духовенство и вельмож, клеймила войну, утверждала ценность жизни. Содержание поэзии XII и XIII веков разнообразно: любовь и разочарование, вера и сомнения, жизнь и смерть — все то, что порой называют «вечными темами», разумеется, вдохновляло труверов и трубадуров. Впервые в поэзии они выразили то благоговение перед любимой женщиной, которое придало любви более сложный и более человечный характер; даже если зачастую они грешили вычурностью или аффектацией, любовная поэзия XII века помогла воспитанию чувств, подготовила сердца к восприятию Данте и впоследствии Петрарки. Однако средневековые поэты не пренебрегали и злобой дня: восстаниями крестьян против духовенства, обличениями ростовщиков, притязаниями ремесленных цехов, критикой Генриха III, сатирическим изображением монахов и епископов. «Роман Розы», написанный в XIII веке Жаном де Мёном, направлен против власти невежества и лицемерия, против святош, пристрастных судей, против богатства и деспотизма. Сто лет спустя Эйсташ Дешан писал:
У вас от Господа права,
У вас из золота слова,
У вас замки, у вас ключи,
У вас мечи и палачи,
Но есть на свете правда…
Рождались большие эпопеи и сатиры-фаблио, рассказы о подвигах Роланда, Ланселота, Тристана и о проделках хитроумного Лиса.
Из Франции темы и герои, сюжеты и припевы двинулись в другие страны. Песни о рыцарях Круглого стола зазвучали в городах Италии. Англичане воспевали странствующего рыцаря Ланселота и смеялись над проделками Лиса. Скандинавские барды вдохновлялись легендой о Граале. Французская эпопея не осталась без отклика в соседней Германии.
В Средние века не было еще раздела между литературой устной и письменностью, между народной поэзией и учеными поэтами. Когда мы думаем о старых эпопеях, мы склонны приписывать их творчеству народа. Это верно, поскольку все большие поэты связаны с народом, и это вместе с тем ошибочно, потому что и у эпопей были авторы. Мы не знаем их имен, для нас они анонимны, но они созданы не множеством, а одним; и даже если они менялись в устной передаче или переделывались, то это только означает, что дошедшие до нас варианты — творчество двух или двадцати поэтов. Эпопеи народны не потому, что их сочинял коллектив, именуемый «народом», а потому, что они выражали народные стремления и чувства.
Есть лица настолько изменившиеся с годами, что, глядя на фотографию ребенка, нельзя в ней найти ни одной черты лица взрослого человека, который показывает вам эту фотографию; и существуют другие лица — с детских лет до старости вы видите какую-либо резко выраженную черту — глаза, нос или построение головы. Читая литературу средневековой Франции, видишь в ней черты авторов, нам хорошо знакомых. В романе Лиса мы уже видим и «Кандида», и «Остров пингвинов», в лирике Рютбефа предопределены и Вийон, и Верлен, и Элюар.