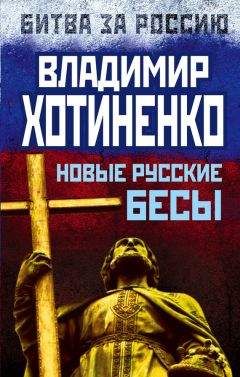403
описывает он «красную аристократию»: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золоты ми зубами и большими, темными, кокаинистическими гла зами… Завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечка ми, «кроет матом». С гневом и яростью обличает компанию Троцкого и всех тех, кто ради погибели «проклятого прошлого» готовы на погибель хоть половины русского народа. Завоевате ли превратили жизнь человека в оргию смерти — во имя «светлого будущего», которое рождается из дьявольского мрака. И тот легион специалистов, «подрядчиков по устроению человеческого благополучия», который орудует в стране, не оставляет Бунину надежды хоть на какое-нибудь сносное будущее. Возможность контакта с «ними» кажется писателю кощун ственной, мысль о сотрудничестве — святотатственной. В течение многих «окаянных» месяцев и дней его поддержи вает, греет, пожалуй, единственное чувство — «быть та¬ кими же, как они, мы не можем». Сознание своего отличия, в первую очередь нравственного, от тех, кто правит бал, малоутешительно, скорее — оно исполнено трагической безнадежности. «Быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!» — заканчивает Бунин свою мысль. Именно моральная несовместимость с «завоева телями» оказывается для Бунина тем самым препятствием, через которое невозможно перешагнуть для того, чтобы, хоть как-то приспособившись, вписаться в складывающуюся си стему. «Подумать только: надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь прола мывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками!» Складывающаяся в обществе «красных завоевателей» мо ральная атмосфера, весьма далекая от кодекса чести писа теля и российского интеллигента Ивана Бунина, действительно ставила с ног на голову многие привычные понятия, отвергала многие понятные и приемлемые нормы. Представления о добре и зле переставали быть абсолютными, граница между ними оказывалась чрезвычайно подвижной и непринципиаль ной, возникал феномен переименования: когда то, что искони считалось безусловным злом, вдруг свою безусловность утра-
404
чивало. «Вообще теперь самое страшное, самое ужасное и позорное, — пишет Бунин, — даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!» Признание Ставрогина «я… имею привычки порядочного человека и мне мерзило» в контексте бунинской ситуации начинало звучать поразительно конкретно и становилось своего рода эпиграфом к тому выбору, на который была обречена имеющая особые привычки русская культура. Однако слова эпиграфа были слабым утешением: сталкиваясь с положения ми противоположного свойства, всеми этими «кто не с нами, тот против нас», доводы совести и аргументы морали в лучшем случае служили самооправданием — на них мало кто обращал внимание и почти никто не принимал всерьез. В худшем же случае доводы и аргументы нравственного порядка дискреди тировались изнутри: так, «Окаянные дни» Бунина содержат записи, ставящие, под сомнение моральные права и самого писателя, и людей из его окружения на правый же суд. Пере фразируя Бунина, хотелось бы сказать: самое ужасное, самое страшное заключалось не в том, что люди, лишенные нрав ственных тормозов, творили зло, а в том, что люди с высоким представлением о моральной норме были готовы ответить тем же. Страшным, поистине катастрофическим диссонансом оказываются, с одной стороны, честное и убежденное «быть такими же, как они, мы не можем», с другой стороны, по-види мому, столь же честное, столь же убежденное и невероятно греховное ответное чувство «Каиновой злобы». Грех по мысла описан Буниным так, что не оставлял никаких сомне ний в искренности переживаемого: «Какая у всех свирепая жажда их (речь идет, разумеется, о «красных. — Л. С.) погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга». Сокровенная мечта Бунина о «дне отмщения и общего все человеческого проклятия» на фоне воображаемой картины из жизни Одессы обретала весьма неоднозначные очертания. Зло порождало зло, смешивая краски и не различая цвета.
405
Открытие Буниным «такой несказанно страшной правды о человеке» оказывалось куда более значительным, чем об этом подозревал писатель. * * * «— За что ты их ненавидишь? — Кого? — Коммунистов. — Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили… Даже пес жалеет своих щенят… На кострах жарить их надо…» 1 Этот диалог из повести Бориса Савинкова «Конь вороной» впечатляюще зафиксировал голоса «красно-белой» эпохи, когда правота каждого кроваво опровергалась озверением и озлоблением всех. В этом смысле личность самого Савинкова, «великого террориста», фанатика подполья, вождя боевиков, «честно» работавших на Азефа, человека, сделавшего своей профессией кровопролитие во имя идеи, является как бы живой иллюстрацией к нашей теме. Его повести-исповеди содержат уникальный и в общем совершенно достоверный документальный материал о том кошмаре, из которого скла дывался внутренний мир супер-«бомбиста». Изнутри, от пер вого лица идет осмысление вины и стыда, греха и правды содеянного вопреки основным заповедям человеческого су ществования. Борьба как форма существования сметала все, что могло остановить, ограничить человека в его безумии и безудерже. «Человек живет и дышит убийством, — размыш ляет литературный герой Савинкова, — бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не смеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях за вета?.. Какой кощунственный балаган!» И все-таки тот балаган, в котором принял участие автор повести, Борис Савинков, несмотря на некий налет вневремен- ности и надмирности, имел весьма определенные и узнаваемые политические очертания. Борьба, где кладут свои и чужие го ловы люди Савинкова из его боевых отрядов и герои из его 1 «Юность», 1989, № 3, с. 47. В дальнейшем все ссылки на повесть Б. Са винкова даются по этому изданию.
406
художественных сочинений, мало похожа на первобытную борьбу за существование и выживание. Это предельно иде ологизированное сражение, со всей тяжестью осознанно взя того на душу греха — с мучительными сомнениями и жаждой искупительного оправдания. Это вечное Pro и Contra, выра женное через «мы» и «они» белого движения с его трагической безысходностью и нравственным тупиком. Нельзя не понять и не признать правоты героя повести «Конь вороной», Жоржа, когда он говорит, обращаясь к любимой женщине, оказав шейся в другом лагере: «А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш «Коммунистический манифест»? Подумай. Вы обещали «мир хижинам и войну дворцам», и жже те хижины, и пьянствуете во дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыню «на гроб», а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а дру гие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни прика зывают, а другие повинуются, как рабы. Все как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны… Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство». Но тот же Жорж, доподлинно узнавший, куда привели те, кто, «выходя из безграничной свободы», сулил земной рай, — тот же Жорж слышит в ответ и в свой адрес: «Что для вас народные слезы и кровь? Что для вас справедливость? Вы Родину любите для себя. Вы свободу цените только вашу…» Пасьянс гражданской войны разыгрывается так, что обе стороны (и «мы», и «они»), утверждая свою правду насилием, не оставляют ни малейшего шанса на свободу для всех. Ко стры, пытки, расстрелы, призраки китайских казней — все это, совершавшееся во имя и ради России, неминуемо должно было обернуться ее величайшей трагедией. Срабатывал какой-то извечный непреложный закон, по которому безграничная сво бода, утверждаемая и завоевываемая насилием, вела к безгра ничному деспотизму — ибо не могла поставить заслон без- удержу диктатуры и безумию политического вожделения диктаторов. Вопросы о том, почему идея свободы роковым образом поселяет рядом с собой идею террора, почему завоевание свободы сопряжено с созданием особо жестокого механизма ее подавления, почему сам воздух свободы, как только ею повея ло, заражается ненавистью, злобой и страхом, — эти вопросы, выросшие из маленького эпизода, частного случая, приобрели под пером Достоевского универсальное, вселенское значе ние. «Все бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… все язвы, все миазмы, накопившиеся в вели-