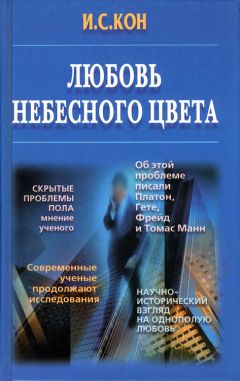Ирина Борисова
Утопия и оркестр романтизма: музыкальные инструменты у В. Ф. Одоевского
Псалтериумы возвещают царствие небесное, тимпаны предвещают плоти умерщвление, флейты — плач ради приобщения к вечной радости, кифары радость внушают верным из-за незыблемости вечных благ.
Григорий Великий
Поэтическая истина, к достижению которой был устремлен романтизм, состояла в синтезе вещественного и искусственного, небесного и земного, звучания — пластики — цвета. Отсюда устойчивая связь этой проблематики с будущим — в грядущем Небесном Иерусалиме, в рамках утопической парадигмы, виделся романтикам будущий синтез искусств. Двумя его основными составляющими являются Поэзия (Логос) и Музыка, причем именно последняя осуществит воссоединение распавшегося в былом единства универсума, т. е. вернет Поэзии утраченное трансцендентное и медиальное качество. Другими словами, посредством музыки человечество вновь обретет истинный Логос, тот самый утерянный мифопоэтический праязык, которого слабые отголоски слышатся в поэзии. Пространственность и визуальность — другая характерная черта Логоса будущего, обретающего, тем самым, «реальность» своего бытия, пластичность, жизненность. Здесь стоит привести цитату из статьи В. Ф. Одоевского, посвященной Девятой симфонии Бетховена:
«Действие, производимое этою симфониею, невыразимо: сначала она поражает, давит вас своею огромностию, как своды исполинского готического здания; еще минута — и этот ужас превращается в тихое, благоговейное чувство; вы всматриваетесь — и с удивлением замечаете, что стены храма сверху дониза покрыты филиграновою работою — что вся эта страшная масса легка, воздушна, полна жизни и грации»1.
Храм в религиозной традиции символизирует предуготовленность тварного мира к принятию благодати, да и любое строение, любой дом, как показал еще М. Элиаде, должно быть одушевленным. В мифопоэтической картине мира романтизма душу и жизнь храма представляет звучащая в нем музыка. Девятая симфония настойчиво репрезентируется как один из важнейших образов-символов романтизма: как звучащий храм музыки и топос коммуникации с Богом. Подобные образы есть и в других его текстах, как и у его эпигонов, например Трилунного (Дм. Струйского).
«Если бы можно было олицетворить думы Бетховена, то они предстали бы перед нами как огромные пирамиды волнующихся звуков со всеми таинственными иероглифами человеческой души».
В цитировавшейся статье Одоевского апофеоз идеи музыки как Града Небесного выражен предельно ярко (ср. также близкий образ в его «Бахе»). Контекст, открываемый интермедиалиями музыки и архитектуры — контекст религиозно-мистический, апокалиптический. Связь город-Град «филигранно» продлевается Одоевским: град > мир > город > храм > храмовая музыка. Старая традиция видеть в образе города историю человечества и его религии (ср. хотя бы у Хильдегарды Бингенской) обретает под пером В. Ф. Одоевского музыкальное звучание (характерное совпадение: аббатиса Хильдегарда также является автором не только книг, в частности, словаря терминов, в которых можно было бы описать мистические видения, но и многочисленных музыкальных композиций). Восприятие музыки Одоевским было слишком визуальным, пластическим. Он слышал ее так ясно, что почти видел, и это видение-слышание было о музыке как Небесном Иерусалиме.
Образ музыки-храма оказывается одним из ключевых для его поэтики. У Гофмана встречается типологически близкий образ, возводимый к «Фаусту» Гете, а через него к античным представлениям. Для интермедиального дискурса Одоевского, однако, более значим христианский образ совершенного города-храма, описанный в Откровении св. Иоанна.
В отличие от западной традиции, настаивающей на образе города, восточная церковь допускает изображение храма в городе или города в виде храма. Существенно то, что Небесный Иерусалим — это место непрерывного богослужения, вечной литургии праведников. При перекодировке этого сюжета в художественный текст закономерно возникает образ звучащего, поющего храма. Апокалиптическому сюжету наследуют все последующие утопии, фантазирующие об идеальных городах-государствах, ср. хотя такую черту небесной архитектуры, как прозрачность и «внутренняя просиянность». Кроме того, необходимо учитывать библейский образ-символ храма, который символизирует Бога, благодать, праведников, весь тварный мир.
Музыкальные обертоны этих апокалиптических образов специфически реализуются в поэтике музыкальных инструментов, описываемых романтизмом в качестве медиаторов между человеком и (музыкальным) бытием. Вне mundi musici музыкальный инструмент репрезентирует музыкальное, равное для романтика мистическому, божественному. Обратно, в музыкальном бытии инструмент представительствует за человека, являясь его переводчиком. Экспансия музыкального в человеческом и человеческого в музыкальном, инструмент являет собой чистый тип медиальности (и даже буквально физически продлевая, по M. Маклюэну, человеческое тело, «срастаясь» с ним). В программных для романтизма «Фантазиях об искусстве» В.-Г. Вакенродера эта мысль выражена при помощи традиционного образа арфы Господней :
«Я смотрю — и не вижу ничего, кроме жалкой паутины числовых соотношений, вещественно выраженных в просверленном дереве, в совокупности струн, сделанных из кишок и медной проволоки. — От этого все становится еще удивительнее, и я верю, что не иначе как незримая арфа Господня присоединяется к нашим звукам и придает человеческой паутине чисел небесную силу».
Те же образы встречаются у Гофмана, Жан-Поля и других «музыкальных» романтиков. В тех же «Фантазиях об искусстве» идея медиальности, «проводимости» музыки через музыкальный инструмент выражена предельно ярко. Восходящая к мистической традиции концепция музыки как звучащей исповеди выявляет философему музыкального инструмента как позволяющего говорить молча, блаженство молча быть поэтом. К исповедальности, этому специфически музыкальному явлению, романтизм был особенно чуток. Отсюда устремленность романтизма к инструментальной, абсолютной музыке, дающей чувство бесконечной вовлеченности человека в музыкальное бытие. Отсюда внимание к инструменту как иному человеческого голоса, человека (в эстетических работах романтиков нередко обсуждается проблема инструмента и человеческого голоса).
При общем взгляде на поэтику музыкального инструмента у Одоевского видна (1) четкая соотнесенность инструмента с персонажем, их своеобразное двойничество, и отсюда способность инструмента к репрезентации его мировоззрения. (2) Инструмент подчеркнуто медиален, осуществляя связь главного героя с другими персонажами. (3) Характерной чертой медиальности, описываемой текстами Одоевского, является ее несовершенство, поврежденность, откуда ведут свое закономерное происхождение (4) тема искалеченности музыкальных инструментов и (5) необходимый утопический контекст. Каждая из (анти)утопий Одоевского соотносится с определенным инструментом, определяя тем самым неповторимый состав оркестра Одоевского: сломанная музыкальная шкатулка, разбитое фортепьяно, мертвый орган, взрывающийся земной шар vs. орган Цецилии, гидрофон, Земля.
В утопии «4338-й год» есть примечательный пассаж: герой, прогуливаясь с дамами по саду, принадлежащему первому министру, останавливается у бассейна с ароматной водой и слышит странные звуки, а приближаясь, видит, что одна из дам играет на неизвестном ему инструменте гидрофоне, составляющем единое целое с бассейном. Образ сада, особенно в утопическом контексте, имеет семантику парадиза и является, тем самым, средоточием утопического государства. В этом же тексте есть описание другого сада, занимающего весь Васильевский остров, в котором Одоевский дает очень четкую характеристику сада как пространственно-временного континуума, как образа мира:
«<…> Этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в средине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн нагреваемый, в котором содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен».
С большой долей уверенности можно говорить о типологической близости этих двух садов. Сад с гидрофоном принадлежит первому министру и находится «в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории», т. е. соотносится с целым рядом сакральных центров. Его сходство с садом на Васильевском, в котором кроме бассейна есть огромный водомет (ср. огненный водомет в новелле «Цецилия», входящей в «Русские ночи») и который непосредственно примыкает к зданию Кабинета Редкостей, имеющего «вид целого города», чрезвычайно значительно в поэтике этого текста и позволяет говорить о саде с гидрофоном как о сокращении сокращения планеты.