Илья Франк
Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации
Передает ли звучание слова его значение или является только условным знаком? Ощущаем ли мы в слове «лес» сам лес как явление, его плоть и его звуки, например шелест? Иначе говоря, является ли слово «лес» маленьким звуковым рисунком леса? Или это только обозначение, о котором условились люди, чтобы понимать друг друга (и могли бы условиться по-другому, предложив другое слово для обозначения большой группы деревьев, например слово «сел»)?
Слово, в звучании которого раскрывалось бы его значение, – мечта немецких романтиков конца XVIII – начала XIX века. Они говорили о чудесном языке, каждое слово которого – не условный знак, а шифр явления, который поддается разгадке. Новалис в повести «Ученики в Саисе» говорит об этом так:
«Преимущественно же влек их к себе тот священный язык, который сияющим мостом соединял тех царственных людей с неземными краями и их жителями и кое-какими словами которого, согласно самым разным преданиям, владели еще некоторые счастливые мудрецы из наших предков. Его звучание было чудесным пением, неотразимые тона глубоко проникали внутрь каждой природы и расчленяли ее. Каждое из его имен было как бы словом-разгадкой для души каждого природного тела. Творческой властью этих ритмических колебаний пробуждались все образы мировых явлений, и о них можно было по праву утверждать, что жизнь вселенной – это вечный тысячеголосый разговор, так как в их речи все силы, все виды деятельности казались непостижимым образом соединенными».
Это сразу воспринимается, конечно, как красивая легенда. В любом случае у нас-то нет священного языка. У нас – несколько тысяч языков, в каждом из которых много тысяч слов-знаков, обозначающих предметы и явления. Получается, что слово – условный знак, его звучание безразлично для его значения.
Однако приглядимся, например, к таким словам, как «ветер» или «бабочка».
Мы чувствуем, что люди не могли условиться так, чтобы бабочка обозначалась словом «ветер», а ветер – словом «бабочка». Мы чувствуем, что в слове «ветер» дует ветер, а в слове «бабочка» порхает бабочка. Вот, говоря словами Новалиса, кое-какие слова священного языка прямо в нашем обычном языке.
Конечно, сказать, что мы это чувствуем, не значит что-либо доказать. Такое утверждение очень легко опровергнуть, сказав: «А я так не чувствую, это ваша галлюцинация». Или: «Вы просто настолько привыкли к этим словам, что, слыша слово «ветер», сразу представляете себе, как дует ветер, и вот вам уже кажется, что само явление изображено, нарисовано звуком в этом слове».
Доказать нельзя, но можно показать тем, кто готов прислушаться, готов попробовать слова на вкус. Могут ли обменяться смыслами слова «холод» и «жар», «тихий» и «громкий», «легкий» и «тяжелый», «мягкий» и «твердый», «узкий» и «широкий», «медленный» и «быстрый», «пушинка» и «камень», «взлететь» и «упасть», «пощечина» и «поцелуй»?.. Интересно, что в этих и подобных случаях иноязычный участник эксперимента часто угадывает значение правильно, при этом набор предлагаемых для угадывания слов может быть и больше двух.
И наоборот, русскоязычный обычно угадывает, например, в паре немецких слов “eng” (эньг) и “breit” (брайт), какое из них означает «широкий», а какое – «узкий». Или в паре английских слов “quick” (квик) и “slow” (слоу), какое из них означает «быстрый», а какое – «медленный».
Рассказывают, что немецкий философ-мистик XVII века Якоб Бёме, не знавший древнееврейского языка, правильно угадывал значения еврейских слов, которые ему называли. Это, несомненно, просто легенда (легендами же и прочими чудесами мы в данном сочинении заниматься не будем, – точнее, будем заниматься только теми чудесами, которые можно потрогать). Однако, может быть, речь шла лишь о небольшом наборе слов, который надо было сопоставить с соответствующим набором немецких слов. Тогда такое угадывание вполне возможно. При этом, конечно, нужно обладать развитым чувством звукового рисунка слова. У Якоба Бёме оно было, не случайно он говорит о «естественном языке», о том, что «внутреннее открывает себя в звуке слова», что «всякая вещь имеет рот для откровения» («Аврора, или Утренняя заря в восхождении»). Бёме вглядывается в звучание слов, в отдельные звуки и их комбинации, занимается своего рода языковой алхимией. Например, о слове «сердце» (Herz – хэрц) он пишет:
«…слог Herz выталкивают из глубины тела, из сердца: ибо слово Herz произносит истинный дух, поднимающийся (рождающийся) из зноя сердца, в котором восходит и кипит свет».
Вы слышите, как слово Herz поднимается из сердца и кипит?
Так вот и я скажу, что «лес» хоть и маленькое, односложное слово, а все же шелестит.
Сократ (в платоновском диалоге «Кратил») отрицает мнение, «что-де имена – это результат договора и для договорившихся они выражают заранее известные им вещи, и в том-то и состоит правильность имен – в договоре, – и безразлично, договорится ли кто-то назвать вещи так, как это было до сих пор, или наоборот: например, то, что теперь называется малым, он договорится звать великим, а что теперь великим – малым». Далее он говорит, что как ткачу для каждого отдельного вида ткани нужен особый челнок, соответствующий природе ткани, так для каждого предмета или явления нужна особая звуковая композиция. Так, например, «буква ро соответствует порыву, движению и в то же время твердости». От этого первоначального звука родится пучок «однокоренных» слов: «рэин» – «течь», «роэ» – «стремнина», «тромос» – «трепет», «трахюс» – «обрывистый», «круэйн» – «ударять», «трауэйн» – «крушить», «эрэйкэйн» – «рвать», «трюптэйн» – «рыть», «кэрматидзэйн» – «дробить», «рюмбэйн» – «вертеть» – «все они очень выразительны благодаря ро».
Вслушиваясь в приведенные выше греческие слова, мы чувствуем, что нельзя, например, поменять значения у «рэин», «эрэйкэйн», «кэрматидзэйн», не разрушив звуковую картинку. Кстати говоря, если вы найдете среди ваших знакомых людей, не знающих древнегреческого, вы можете предложить им сопоставить эти слова с русскими словами «течь», «рвать», «дробить» – интересно, найдут ли они верную русскую пару к каждому греческому слову.
Есть, как известно, просто звукоподражательные слова, скажем «кукареку», «квакать» или «шелестит», «дребезжит». Они обозначают и одновременно с этим рисуют какие-либо звуковые явления. При этом слово, например, «кукареку» очень условно передает крик петуха, это не подражание, а именно условное изображение. Видимо, звук «к» передает то, что это горловой и отрывистый крик, звук «р» подчеркивает его гортанность, а гласные «у-а-е-у» расставлены так, как показалось некоему художнику (коллективному художнику, народу) лучше – с эстетической точки зрения и в смысле соотношения с другими словами его языка (немецкий петух, например, кричит «кикерики», французский – «кокарико», а китайский вообще кричит «уоуо»). Даже звукоподражательные слова являются не прямым подражанием явлению (стремлением, например, наиболее приближенно воспроизвести петушиный крик), а условным изображением явления, звуковым рисунком, их нужно рассматривать с эстетической точки зрения. Они не фотографии, а, скажем, картины Сезанна, передающие не сами предметы и явления и даже не впечатления от них, а их сущность, их идею. Они обладают своей структурой, соответствующей, параллельной структуре того, что они передают. То есть слова являются не условными знаками (в которых звучание было бы произвольно) и не точными слепками (фотографиями), а символами передаваемого (художественными произведениями).
Звучащих предметов и явлений не так уж много, большинство предметов и явлений не звучат, безголосы. Например, «колокольчик» имеет голос, а «бабочка» – нет. Но оба этих предмета нарисованы звуком. Слово не подражает явлению, а его выражает, дает ему «рот для откровения».
Павел Флоренский в работе «Магичность слова» замечает, что слова кажутся нам миниатюрными лишь по своей кратковременности, но при растяжении времени, например приемом гашиша, превращаются в сложные музыкальные произведения, в сложное целое.
Принимать гашиш мы не будем (мало ли еще какие чудеса привидятся), а послушаем то, что могут рассказать дети, вслушиваясь в какое-либо слово. Я проводил такие эксперименты. Вот, например, рассказ ребенка о том, как он воспринимает слово «метро»:
М – замедляя движение, подходит поезд; Е – потоки воздуха, рассекаемые поездом, обтекающие его; ТР – торможение и последующий разгон, рев удаляющегося поезда; О – поезд уходит в туннель, остается поток воздуха и эхо.
Откуда берутся эти сопоставления? Почему М здесь воспринимается ребенком как выражение замедляющегося движения? С криком петуха было примерно ясно: прерывистый, гортанный крик. А здесь откуда?
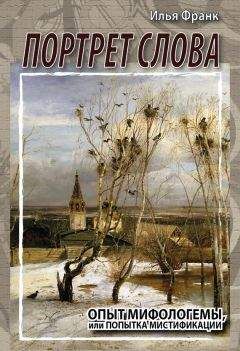


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

