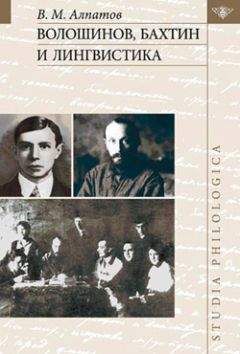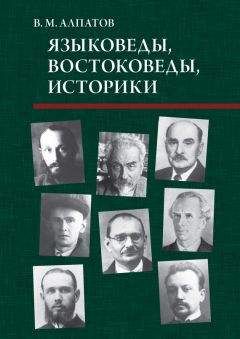Ознакомительная версия.
Школа языкового существования достаточно специфична по тематике. Только для нее специфично, например, изучение языка в течение 24 часов. А столь важные для западной или отечественной социолингвистики проблемы двуязычия и языков меньшинств там не разрабатываются (они не очень актуальны для Японии). Но главное – не это. Школа языкового существования отличается от современной западной социолингвистики не столько по темам, сколько по общему подходу. Об этом писал советский исследователь данной школы: «Термин „языковое существование“ понимается как бытие человека, проявляющееся в его действиях, связанных с речевым общением, которые и составляют полноценность человеческой жизни и противопоставляют его как существо социальное животному миру. В этом термине исходным является не понятие языка, что было бы естественным для европейской лингвистики, а идея жизни человека, и наиболее удачным переводом, хотя и очень далеким от прямого смысла термина, было бы, пожалуй, слово „антрополингвис-тика“ при понимании антропологии как науки о человеке вообще».[878] Впрочем, предлагаемый С. В. Неверовым термин занят: в США под антропологической лингвистикой понимает ся совсем другое. А мы помним, насколько важно для МФЯ изучение языка в жизни людей.
Однако не надо преувеличивать степень теоретичности школы языкового существования. Для японской науки вообще характерен определенный разрыв между достаточно там распространенными общими философскими рассуждениями (которых немало и у Токиэ-да, и у Нисио) и чисто конкретными и узкими по тематике исследованиями (многочисленными и достигающими совершенства в рамках школы языкового существования). «Середины» очень часто не бывает. К тому же, что признают и сами представители школы,[879] общая концепция школы была разработана примерно к середине 50-х гг., а затем теоретические исследования почти исчезают. Идеи основателей школы дали лишь некоторое общее направление исследованиям, которые затем стали посвящаться, как правило, очень узкой и конкретной проблематике. Противники школы языкового существования главными ее недостатками считают низкую теоретичность, эмпиризм, отказ от абстракций.[880]
Тематика исследований школы языкового существования где-то соприкасается с проблемами, интересовавшими Волошинова и Бахтина. Особенно это относится к исследованиям по структуре диалога. Они занимают заметное место в работах данной школы. Изучаются способы поддержания, развития или прекращения диалога и употребляемые для этих целей разнообразные языковые средства. Особо привлекают внимание японских исследователей так называемые аидзути – вербальные средства воздействия на собеседника с целью поддержания диалога; см., например,.[881]
Например, японские слова Hai, E считаются эквивалентами рус. Да или англ. Yes, хотя смысл их иной: они значат не «Вы правы, я согласен с Вами», а «Я понял (расслышал) Вас и прошу продолжать». Исследуются также социальные роли в диалоге. Например, описано распределение диалогических ролей между!мужчинами и женщинами: почти всегда мужчина в Японии определяет тему диалога и смену темы, только он перебивает свою собеседницу, роль женщин в основном (помимо ответов на вопросы) сводится к аидзути.[882] В то же время такая тематика, как, например, изучение жанров (как и функциональных стилей), не нашла значительного от ражения в данной школе.
Школа языкового существования сравнительно подробно описана в литературе на русском языке. Первым ее заметил и оценил Н. И. Конрад.[883] Позднее вышла специальная книга.[884] См. также.[885] Некоторые работы, связанные с этой школой, изданы по-русски в сборнике переводов.[886] Однако представляется, что за пределами японоведения она известна все же недостаточно.
Большинство лингвистов данной школы мало интересуются иностранными работами, особенно теми, которые не переводились на японский язык. Впрочем, МФЯ впервые была издана по-японски уже через три года после первого английского издания, в 1976 г.[887] в переводе и с комментариями Кува-но Такаси; это – одно из очень немногих изданий книги под двумя именами авторов. В Японии МФЯ, как и другие работы Бахтина и его круга, весьма популярна. Существует уже довольно многочисленная литература по бахтинистике, некоторые из этих публикаций учтены в этой книге. В Токио сейчас функционирует Бахтинское общество, начало публиковаться полное собрание сочинений Бахтина на японском языке (пока вышло два тома), куда войдут и все нам известные сочинения круга Бахтина.
Однако японская бахтинистика относится к той части науки этой страны, которая ориентирована на западные идеи и теории (русская наука для японцев—всегда часть западной). Более связанные с национальной культурой школы и направления, в том числе и школа языкового существования, мало учитывают то, что сделано в других странах. Свойственная, видимо, любой науке о своей собственной культуре замкнутость и самодостаточность (вспомним, что книга Бахтина о Рабле при огромной популярности во Франции менее всего учитывается французскими специалистами по Рабле) в Японии достигает крайних пределов. Тем не менее, представляется, что некоторая общность между МФЯ и школой языкового существования существует.
VII.5. Современный последователь концепции МФЯ
Рассмотренные выше западные социолингвисты лишь отталкиваются от некоторых идей МФЯ и примыкающих к книге публикаций, принимая их на вооружение. Однако можно встретить и работы, где делается попытка развивать концепцию МФЯ в ее целостности и применять ее модифицированный вариант к анализу конкретного языкового материала. В последние годы в этом отношении обратила на себя внимание книга,[888] уже несколько раз цитировавшаяся в предыдущих главах (далее в этом разделе ссылки на нее приводятся лишь с указанием на номер страницы).
Ее автор Борис Гаспаров в 60—70-е гг. работал в Тарту и обратил на себя внимание публикациями по лингвистике текста. Затем он покинул СССР, а в 90-е гг. вновь стал публиковаться в отечественных изданиях, преимущественно как литературовед. Однако данная книга (вышедшая в литературоведческом издательстве «Новое литературное обозрение») посвящена в основном языку.
Заглавие книги перекликается с названием ведущего направления японской лингвистики, о котором речь шла выше. Сам ее автор никак не упоминает эту японскую школу и, как он сказал мне в 2002 г., в момент написания книги не знал, что она вообще есть. «Языковое существование» Гаспаров понимает далеко не так, как японские ученые. Тем не менее сама перекличка терминов любопытна, а сходство идей также существует: там и там мы видим антиструктурализм, отказ от исследования языка в соссюровском смысле, огромное значение, придаваемое интроспекции.
Но разумеется, Гаспаров здесь ориентируется на европейскую науку о языке, причем его оценки достаточно близки к оценкам МФЯ. Только, конечно, он учитывает и то, что произошло в этой науке за период с 1928 по 1996 г.
Не употребляя термин «абстрактный объективизм», Гаспаров аналогичным образом выделяет соответствующее течение в науке о языке, также относясь к нему отрицательно, связывая его с позитивизмом и понимая весьма широко. «Кульминацией позитивистского подхода к языку» именуется подход младограмматиков, говоривших о «естественных законах» языка (21). Однако к позитивизму отнесены не только структурализм, но и Хомский, хотя тот полемизировал с позитивизмом и считал одним из своих предшественников Гумбольдта. Гаспаров такое выделение «первооснов» у Хомского рассматривает как «самый поразительный пример избирательной рецепции идеи Гумбольдта» (21).
В чем общее между, казалось бы, достаточно разными концепциями младограмматиков, Соссюра и Хомского? Об этом говорится уже во введении к книге. Здесь ее автор подчеркивает «выпадение» линт вистики из общего развития гуманитарных наук в ХХХ в. Если в других науках «кардинальным образом изменяется каждый раз вся картина предмета, самые фундаментальные категории и представления, казавшиеся до этого незыблемыми» (6–7), то «лингвистика все это время продолжала и продолжает идти по дороге, проложенной рационализмом и детерминизмом Просвещения. В том, как она определяла и сегодня еще определяет свой предмет и цели и способы его описания, явственно проглядывает наследие эпохи, предшествовавшей Французской революции; все та же вера в универсальность принципов разумной и целесообразной организации, действительных для любого феномена, все то же иерархическое отношение между идеальным „внутренним“ порядком и его „внешней“, несовершенной реализацией, все та же устремленность к всеобщему и постоянному, для которого все индивидуальное и преходящее служит лишь первичным сырым материалом концептуализирующей работы, наконец, все тот же детерминизм в выстраивании алгоритмических правил» (7).
Ознакомительная версия.