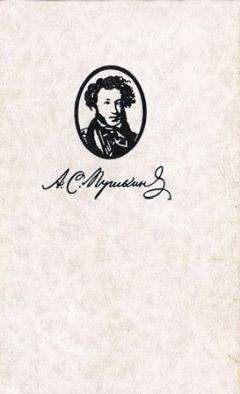Ознакомительная версия.
И вот тогда вместе с любовью пришло «вдохновенье». До сих пор все эти отроческие стихотворные опыты были веселой забавой. Так было занятно и заманчиво перелагать по-новому в размеренные строки мотивы Парни или Батюшкова, но в этой чудесной игре еще не было того «тайного волнения», которое теперь его посетило.
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я – поэт…
Товарищи еще недавно недоверчиво смотрели на этого некрасивого, губастого чудака, такого непостоянного, самолюбивого и дерзкого.
Но теперь —
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил…
А главное, все вдруг почувствовали, что у этого Пушкина есть какое-то «право на первородство». Пушкин вспоминал об этом признании товарищей спустя четырнадцать лет:
Они, пристрастною душой
Ревнуя к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую Музу…
К этому сроку поэт уже приобрел некоторую известность за стенами лицея.
Первое пушкинское стихотворение, появившееся в печати летом 1814 года, было подписано – Александр Н. к. ш. п. Эта пьеса «К другу стихотворцу» была напечатана в «Вестнике Европы», где в то время был редактором В. В. Измайлов.[103] В том же году и в том же журнале появилось еще четыре пушкинских стихотворения. В 1815 году было напечатано шестнадцать пьес в «Российском музеуме» и одна – «Наполеон на Эльбе» – в «Сыне отечества».
Родители поэта с удивлением должны были согласиться, что, пожалуй, из их капризного и неловкого Александра выйдет поэт.
Державин, оказывается, не ошибся. Анакреонтический жанр и шутливые послания еще ничего не доказывали. Ода, написанная в торжественном, старомодном стихе, по случаю исторических событий, тоже не убеждала в оригинальности таланта. Но вот в том же «Российском музеуме» весною было напечатано «К Лицинию». Эта пьеса обратила на себя внимание.
Однажды во сне Пушкин услышал два стиха:
Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая…
Приснившиеся поэту строки вошли потом в эту самую пьесу «К Лицинию», которую одобрил Василий Львович. Это уже нечто серьезное. Прекрасный шестистопный ямб напоминал Корнеля. Автор, правда, сделал подзаголовок «с хатинского». Возможно, что он сделал это по цензурным соображениям, но у него было для этого основание и по сути дела. Послание звучит в самом деле, скорее, как «медная хатынь», чем как французский александрийский стих. Недаром Пушкин упоминает о Ювенале.[104] Не очень прилежный ученик Кошанского успел, однако, познакомиться с римским поэтом I века нашей эры. Читал он его, вероятно, во французском переводе, но каким-то чудом от этого послания веет настоящим, подлинным Римом. Нет, решительно надо считаться теперь с этим юношей. В послании есть идея. Заключительный стих «свободой Рим возрос, а рабством погублен» очень внушителен и смел. Откуда эта формула? Можно подумать, что у лицеиста-повесы, с плохими успехами в школьной науке и с превосходными в фехтованье, уже сложилось какое-то свое понимание истории. Простодушный Кайданов едва ли помог ему в этом. Скорее Куницын мог внушить ему идею гражданственности. Вот уже три года этот геттингенский студент твердит с кафедры о естественном праве, о задачах просвещенной государственности, о гарантиях политической свободы. По-видимому, несмотря на свою рассеянность и прямое отвращение к отвлеченному юридическому мышлению и формальной логике, Пушкин кое-что запомнил из этих лекций. Но, конечно, не только в этих лекциях секрет пушкинского интереса к теме Рима. Сейчас он только на одно мгновенье остановился на ней. Впоследствии вопрос о судьбах государственности займет его ум и воображение чрезвычайно. Послание «К Лицинию» – это пока залог будущего. Удивительно, что он уже успел его дать, когда, казалось бы, он поглощен иными впечатлениями и настроениями. Вообще, трудно себе представить, как Пушкин мог вместить на небольшом отрезке времени такое безмерное количество идей, увлечений, трудов, сладострастия, восхищения поэзией, удивления перед загадками истории, пламенных восторгов и нежной любви. Для всего этого нужны были какие-то сверхчеловеческие силы. Очевидно, были у него эти силы.
Большие писатели Карамзин, Жуковский, Батюшков. Вяземский обратили внимание на юного поэта. Дядюшка Василий Львович уже гордился племянником. Знаменитые стихотворцы навещали шестнадцатилетнего лицеиста. Одним из первых посетителей лицея был В. А. Жуковским знавший Пушкина еще мальчиком в Москве. Жуковский подарил младшему собрату книгу своих стихов. В январе 1815 года Пушкин напечатал послание Батюшкову, «харит[105] изнеженных любимцу», «российскому Парни», которому был обязан своими первыми поэтическими опытами. Московских встреч с Батюшковым Пушкин не помнил. По-видимому, он не знал, что в это время Батюшкову было уже двадцать восемь лет: если бы он знал это, едва ли он обратился бы к нему так фамильярно:
Пой юноша – певец Тиисский…
Батюшков в это время был далеко уж не юноша и как раз переживал тяжелое душевное состояние. Это не помешало ему, однако, искать знакомства со своим гениальным учеником. Пушкин, вероятно, был очень удивлен, когда увидел грустные и странные глаза этого мнимого эпикурейца, у которого ум был уже занят темою статьи, им вскоре написанной, «Нечто о морали, основанной на философии и религии», а сердце элегиями, в коих он оплакивал свою неразделенную любовь. Кстати сказать, впоследствии Пушкин дал о некоторых из них лестные отзывы. «Разлуку» он называл «прелестью», а по поводу «Тавриды» писал, что она «по чувству, по гармонии, но искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения лучшая элегия Батюшкова».
В марте 1816 года в стенах лицея появился приехавший из Москвы Карамзин в сопровождении молодого князя П. Л. Вяземского и Василия Львовича Пушкина. Карамзин был уже непререкаемый авторитет, мэтр, историограф, успевший написать восемь томов «Истории государства Российского». Они еще не были напечатаны, но все знали о событии. Не только лицеисты, но и педагоги были заинтересованы его посещением. В старомодном костюме, в коротких штанах, в шелковых чулках, в башмаках с пряжками, он всей своей фигурой напоминал XVIII век. Николай Михайлович Карамзин приехал в лицей посмотреть «маленького» Пушкина, которому сам Державин вручил «пальму первенства». Василий Львович, почтительный к главе школы, очень теперь хвастался своим племянником. Вернувшись в Москву и получив от него письмо, тотчас ему ответил, называя его «братом по Аполлону». Племянник удосужился ответить дядюшке только через девять месяцев: «Нет, нет, вы мне совсем не брат: вы дядя мой и на Парнасе». Вяземский помнил Пушкина по Москве. Теперь с двадцатитрехлетним поэтом у «маленького» Пушкина сразу установились приятельские отношения.
В этот год как раз процветал «Арзамас»,[106] где поэты и критики нового направления высмеивали «Беседу»[107] и всех противников карамзинской реформы. Жуковский изощрялся в своих выдумках и шутках. Москвичи наслаждались «арзамасскими» забавами. Карамзин, Василий Львович, Вяземский оставались в Петербурге почти два месяца. За это время автора «Опасного соседа» избрали в члены общества. Для простеца сочинили особый ритуал, уверив его, что так требуется по уставу «Арзамаса». На бедного Василия Львовича надели хитон, украшенный раковинами, завязали ему глаза, водили его по каким-то лестницам и коридорам, бросали ему под ноги хлопушки, заставили его стрелять из лука в аллегорическое чучело, изображающее «дурной вкус» или самого Шишкова… Вероятно, в это же время заглазно был выбран членом «Арзамаса» и Александр Пушкин, так же как ранее Батюшков и Денис Давыдов.
Когда москвичи уехали из Петербурга, Пушкин послал Вяземскому письмо, где просил «русских стихов Шапеля[108] и Буало[109]», то есть стихов самого Вяземского, определив этой шуткой характер его рассудочной поэзии. Угождая вольномыслию старшего собрата, поэт сообщает, что «недавно говел и исповедывался» и что «все это вовсе не забавно». Ему надоела школьная жизнь. «Целый год дремать перед кафедрой… это ужасно…» «Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную академию и беседу губителей российского слова…»
Пушкин с нетерпением ждал освобождения от лицейского плена. Но в сущности плен этот был совсем не тягостный. Авторитетной власти в лицее не было вовсе. Ни Гауеншильд, осведомитель австрийского правительства, как это выяснилось впоследствии, ни простоватый Фролов,[110] временно исполнявший обязанности директора, не могли справиться со своей задачей. Лицеисты вовсе не были затворниками. Они не только посещали домашний театр Варфоломея Толстого, появлялись на публичных гуляниях и парадах, засиживались в кондитерской Амбиеля, но и нередко проводили вечера у царскосельских знакомых, иногда возвращаясь в лицей под утро. Швейцар получал на водку, и ночное приключение лицеиста оставалось начальству неизвестным. Пушкин широко пользовался этими вольностями.
Ознакомительная версия.