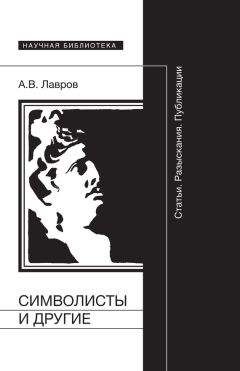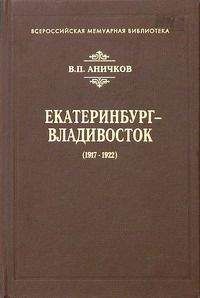Индивидуальная манера, сформировавшаяся у Коневского, стала для него единственно возможной формой высказывания: в стихах она продемонстрирована с той же отчетливостью, что и в прозаических этюдах, философских записях, критико-аналитических статьях, дневниковых заметках и письмах (Брюсов свидетельствует, что тот же слог Коневской употреблял и в «дружеских беседах»[112]). В поэтической практике приметы этого архаизированного, синтаксически усложненного, нестандартного слога служили формой творческого самоопределения на фоне преобладавшего трафаретного стихослагательства, обнаруживавшего «легкость необыкновенную» в мыслях и образных построениях. «“Я люблю, чтобы стих был несколько корявым”, – говорил сам Коневской, которого раздражала беглая гладкость многих современных стихов. И этой “корявости” он, конечно, достигал, и не один читатель затруднится, читая строки вроде:
И был бы мир – венец, что Вечность – шар державы, –
или:
И так бы превозмог мест, сроков протяженье…» –
пишет Брюсов в своем очерке о поэте.[113] Д. П. Святополк-Мирский упоминает о «прекрасной корявости» Коневского,[114] но эта особенность вызывала приятие не у всех ценителей его поэзии (например, С. К. Маковский замечает, что «рядом с проблесками гениальности в его стихах много выраженного нечетко, наивно-замысловато», указывает на «неудачные словесные выдумки и попросту ошибки» в словоупотреблении[115]).
В силу отмеченных особенностей стихотворения Коневского вряд ли способны когда-либо завоевать признание и популярность в самых широких читательских кругах, однако их уникальному своеобразию сумеет отдать должное любой искушенный ценитель поэтического слова. Согласно проницательному наблюдению А. А. Смирнова, в архаизаторской тенденции и утяжеленном слоге Коневского на свой лад отображается «глубокая, безусловная искренность» автора, раскрывающего свою «детски-чистую» душу: «С этой искренностью, с этой чистотой ему не страшны никакие трудности, никакие запреты; с ней он преступает все пределы, и не останавливается, не дойдя до конца. Отсюда – его торжественный, изукрашенный слог, запутанный синтаксис, архаизмы. Красивые, громоздкие, шероховатые стихи его часто производят впечатление недостаточной отделки, обработки, какого-то импрессионизма формы; но если вчитаться в них, становится ясной невозможность изменить хотя бы одно слово. Витиеватая, затейливая форма не выдумана, не создана искусственно Коневским, но возникла естественно, необходимо, в силу его торжественного, проникновенного отношения к своим темам».[116] Эта индивидуальная поэтическая стилистика вбирает в себя широкий спектр составляющих: активно эксплуатируемый арсенал «архаических» поэтических средств, заимствованный из «золотого века» русской литературы и из еще более ранней, риторико-одической традиции сочетается с опытами обновления стиховой фактуры, родственными тем, которые осуществляли его современники-символисты, а также представители следующего поэтического поколения. Н. Л. Степанов указывает на ряд примеров нарушения у Коневского метрических схем, на тяготение его к дольнику и свободному стиху, на использование звуковых повторов и паронимов – сочетаний фонетически парных, но далеких по значению слов; приводит, в частности, строку из стихотворения «Порывы» («Здесь жестоко наш прах цепенеет»), замененную другим вариантом: «Ведь жестоко здесь кости коснеют» – «именно для большей звуковой крепости и организованности».[117]
В своих поэтических медитациях Коневской всегда старается следовать основному исходному принципу – фиксировать исключительно те наблюдения, впечатления и размышления, которые поддаются отражению в сфере отвлеченного умозрения. Образцов так называемой «интимной» лирики, продиктованных сокровенными личными переживаниями, в его стихах почти не встречается, а если реальная жизнь все же сталкивала его с проблемами подобного рода, разрешение их переадресовывалось в ту же метафизическую плоскость. Ею, в частности, было поглощено то, по-видимому, по своей первичной сути любовное чувство, которое на какое-то время внесло определенную сумятицу в его внутренний мир. Жизненной установке, сформулированной в строках стихотворения «Многим в ответ» (1897):
Я не любил. Не мог всей шири духа
В одном лице я женском заключить
(С. 84), –
– суждено было подвергнуться испытанию, когда он зимой 1898–1899 гг. познакомился с Анной Николаевной Гиппиус, младшей сестрой З. Н. Гиппиус. Как свидетельствует Брюсов, «Коневской влюбился самым обычным образом и должен был признаться:
Нет! один я – не все мирозданье.
Выйди, мой воплощенный двойник!
В последнем поэт ошибался: та, кого он любил, отнюдь не была “его воплощенным двойником”. Напротив, ей было органически чуждо все особенно дорогое и близкое Коневскому: его миросозерцание, его любимые авторы, его постоянная углубленность ‹…› Любовь поэта-философа не встретила взаимности».[118] Осознание того, что «воплощенный двойник» на самом деле таковым не является, привело к прекращению едва завязавшихся отношений: об этом свидетельствует письмо Коневского к А. Я. Билибину (июль 1899 г.), в котором излагаются основные сопутствующие обстоятельства.[119] Несколько стихотворений Коневского, отразивших эти переживания, несут на себе отпечаток внутреннего драматизма:
Я расточал блага своих мечтаний,
Я в тысячи лучей их разбивал.
Построил много радужных я зданий –
И ветер жизни в прах их развевал
(«Волнения», II; 1899). (С. 121–122), –
однако эти ноты не вносят кардинального разлада в общую систему мировидения. Строки из цитировавшегося выше стихотворения «Многим в ответ»: «Но девы лик и сны вселенной – братья: // К единому всё диву я парил» – ознаменовали разрешение обозначившейся личной коллизии: «девы лик» поглощался «единым дивом»; следующие строки того же стихотворения: «Так – обнимусь я с женской красотою, // Но через миг – с горой или с ручьем» – уже намечали иерархию ценностей, в которой экстазы, переживаемые при соединении с природой, определенно обретали высший статус. «Человеческие чувства вообще исключены из его поэзии», – утверждал А. А. Смирнов, безусловно, доводя до крайности свои выводы о тех психологических изъянах, которые он подмечал в личности Коневского, и продолжал: «Можно кратко и полно обозначить болезнь Коневского двумя словами: отрицание плоти. Отрицание плоти, а следовательно и всей вообще личной, реальной жизни – главный мотив его творчества. ‹…› Наша литература хорошо знакома с чувством вражды, борьбы против плоти, но такого спокойного и искреннего отрицания, игнорирования ее никогда еще не бывало. И рядом с этим бесстрастным философским отрицанием в душе Коневского уживалась не менее искренняя, не менее глубокая любовь к жизни».[120] Во всеохватном и безраздельном приятии жизни возможность слиться «с горой или с ручьем» компенсировала драматическую отчужденность поэта от многих иных составляющих благого всеединства.
Среди «обширных всезрелищ»,[121] открывавшихся благодарному взору Коневского, созерцания феноменов природы вызывали у него наибольшее воодушевление. Он погружался в царство природы с подлинной страстью, и оно представало перед ним всеми своими глубинами и тайнами, резонировавшими в унисон с вибрациями его самопознающего духа. В этих восприятиях сочетались, по наблюдению Н. О. Лернера, «мудрость старца и joie de vive <жизнерадостность> ребенка»;[122] натурфилософские аналитические рефлексии претворялись в литургическое священнодействие, вдохновленное ощущением слияния со стихийной мировой жизнью. Менее всего стихи Коневского, воплотившие отмеченные особенности его личности, соответствуют привычным стандартам «пейзажной», природоописательной лирики. Цель поэта-«любомудра» – не описать, а постигнуть, охватить синтезирующими усилиями сознания то, что явлено в непосредственном чувственном восприятии. Приближение к сокровенной сути мироздания, предстающей как торжество высшей упорядоченности, метафорически реализуется у него в равной мере воспарением в высшие сферы отвлеченного созерцания и погружением в хаотическую толщу органического мира, воспетым в большом стихотворении – своего рода натурфилософской оде – «Дебри»:
Извивы троп, глубины кущ
Моей душе всего милей –
Святилища дремучих пущ,
Где я пугливей и смелей:
Ничто здесь явно не лежит.
Все притаилось за углом,
И чутко сердце сторожит
Нежданный, странный перелом.
(С. 107)
В своих наблюдениях за природной циркуляцией поэт уже использует ту микроскопическую оптику, которую впоследствии возьмет на вооружение Н. Заболоцкий, созерцая «природы вековечную давильню».[123] И вместе с тем «дебри» открывают Коневскому за видимой суетой и разноголосицей надмирный, космический строй и согласие; микрокосм преображается в макрокосм: