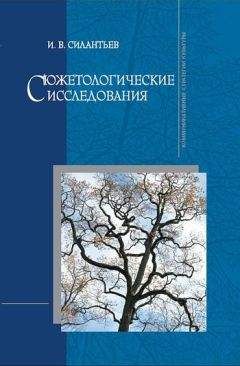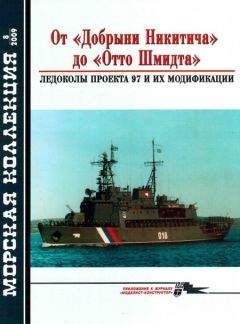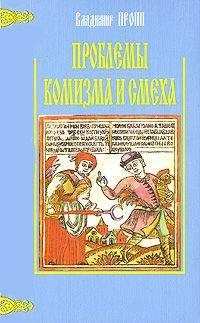Ознакомительная версия.
Динамический принцип сюжета в этом произведении строится на контрасте мотива редуцированного тождества – сценам прошлой жизни, всплывающим в снах Чанга. В этих сценах также реализуется мотив тождества – но тождества полновесного, тождества всех сторон жизни героя и самого бытия, тождества, в котором совмещены образы бушующего океана и тотальное чувство любви, наполнявшей сердце капитана.[52]
Однако и в снах-воспоминаниях Чанга постепенно воцаряется редукция, и счастье капитана безвозвратно уходит, а взамен является неизбывная тоска и горечь потерь, и в конечном итоге – смерть.
Именины. В этом произведении развернут редкий для бунинского лиризма мотив растождествления – природы и погоды, праздничного единения и одиночества, всеобщего веселья и личного страха героя. Данный мотив представлен в его тяжелой статике, которую переламывает только финальное событие пробуждения героя – как выясняется, от ночного кошмара.
Музыка. Написанная вскоре лирическая миниатюра «Музыка» снова являет нам сон героя – и в этом сне ведущим оказывается противоположный предыдущему, характерный бунинский мотив тождества, но взятый в необычном ракурсе единения, слияния героя в действии с сущностными моментами самой жизни – музыкой и самим движением: «…я делал музыку, бегущий поезд, комнату, в которой я будто бы очнулся и будто бы зажег огонь» (5; 145).
Ночь. В произведении на фоне ночной маяты героя разворачивается царственная картина звездного неба, и тему вселенной сопровождает мотив величественного тождества природы своему смыслу, которым наделил ее Создатель: «Умствуют ли мириады этих ночных, степных цикад, наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей любовной песнью? Они в раю, в блаженном сне жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них, и они в нем, а я уже как бы со стороны гляжу на него» (5; 299).
Обреченный дом. В этой миниатюре с характерным бунинским графическим почерком снова выведен мотив редукции: отвратителен московский вечер, герой набредает на сцену убийства («попадает на убийство»), дом убитого часовщика являет некую обреченность, понятную теперь герою: «…как же это никогда до сих пор не приходило мне в голову, что в таком доме непременно должно было совершиться убийство?» (5; 402). И завершает все картина окончательного упадка всего, что окружает героя: «Сумерки, лужи, грязные сугробы, впереди, вдоль пустой улицы, могильно горят редкие фонари…» (5; 403).
Мистраль. Об этом произведении и его поэтическом строе можно, наверное, написать целое исследование. Ограничивая себя, скажем, напротив, очень кратко: насилу преодолевая темы ночи и ветра, бессонницы героя, томительного ожидания рассвета, в тексте являет себя характерный бунинский мотив обновления – но обновления в творческом повторении самого себя: «Еще одно мое утро на земле» (7; 312).
В Альпах. Эта небольшая лирическая зарисовка статична и лаконична, как старая фотография, и в основе ее сюжета ощутимо присутствует лирическая тема обреченного на безысходность одиночества, что подчеркнуто финальной деталью: «Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственный во всем мире и неизвестно для чего светящий всю долгую осеннюю ночь» (7; 340).
Легенда. В этой миниатюре мы снова встречаем характерный для бунинского лирического творчества инвариантный мотивный рисунок: от мотива редукции к мотивам компенсации и обновления.
Бернар. Произведение словно примиряет разноречивые и нередко весьма пессимистичные мотивы предшествующих текстов, разворачивая, пожалуй, ведущий лирический мотив бунинского творчества, – мотив тождества, в данном случае – единения человека в его таланте и предназначении с его судьбой и его смертью.[53]
Обобщение. Мотивика проанализированных стихотворных и прозаических произведений Бунина весьма разнообразна. Здесь и мотив свободного неограниченного движения, и мотив затаенного движения, и мотив очарованного влечения, мотивы обновления и преодоления, поиска и обретения, мотивы единения и расставания, утраты и забвения, мотивы невостребованности и отторжения, постоянства, изменчивости и бренности, наконец, мотив умиротворения. В этом перечне мы привели далеко не все выявленные мотивы – но простое их перечисление ничего не дает, кроме удовлетворения элементарного научного любопытства. Необходимо определить, существуют ли закономерности – как в общей системе бунинской мотивики, взятой в целом, так и в ее развитии, в соотнесении с динамикой бунинского творчества. Пока что мы смогли увидеть одну закономерность – но такую, которая охватывает оба аспекта.
Данная закономерность заключается в следующем: главную мотивную ось бунинской лирики в обобщенном виде можно обозначить как общее движение от мотива редукции к мотиву тождества.
Мотив редукции в лирическом творчестве Бунина многообразен в своих проявлениях: увядающий осенний лес, приближающееся ненастье, холод, наступающие сумерки, запустение, нежеланное одиночество, прошедшая молодость, утраченная любовь, тоска, забвение, смерть.
Мотив тождества не менее богат своими реализациями: это тождество культурных и семейных традиций самим себе, тождество духовного начала человека и культурного времени, тождество обновленного мира самому себе, тождество мира дольнего и мира горнего, тождество лирического героя его памяти и его устремлениям, наконец, тождество лирического сознания и абсолютного начала веры и любви, в конечном итоге, Бога.[54]
Как замечает О. В. Сливицкая, у Бунина «законы восприятия диктует дедукция. Общее, универсальное предшествует, и заданная им мировая пульсация продолжает свое действие в освещенной зоне рассказа».[55] Отношения мотивов редукции и тождества в бунинском лирическом творчестве можно выразить посредством следующей дедуктивной схемы:[56]
редукция
(редукция – компенсация)
↓
тождество
(редукция – тождество)
Если до 1910-х г. в лирических произведениях Бунина преобладали реализации мотива редукции, которые могли компенсироваться различными мотивами позитивной семантики (например, мотивами роста, возвращения, обновления и др.), то, начиная с 1910-х г., в бунинском лирическом творчестве начинает утверждаться мотив тождества – и как таковой, и в его постоянном преодолении мотива редукции.
3. Концепция мотива в статье Н. П. Андреева «Проблема тождества сюжета»
В серии теоретических сборников «Фольклор» В. М. Гацаком в 1988 г. была опубликована статья Н. П. Андреева «Проблема тождества сюжета».[57] Актуальная и востребованная в современной фольклористике (о чем пишут В. М. Гацак и Б. П. Кербелите в предисловии и послесловии к публикации), эта статья не менее интересна и для сюжетологии – в плане трактовки повествовательного мотива и его отношения к сюжету. Наш небольшой комментарий посвящен раскрытию указанного аспекта, а также осмыслению взглядов Н. П. Андреева в общем контексте теоретических представлений о мотиве в отечественной науке о фольклоре и литературе.
Мотив как составная часть сюжета. Обратимся к тексту статьи. «Обычно отдельный сказочный рассказ слагается из нескольких эпизодов; основанием для деления на эпизоды служит перемена места или времени действия, введение новых действующих лиц… Каждый эпизод, в свою очередь, слагается из ряда мотивов, связь между которыми создает единство эпизода» (233–234). И далее: «Вся цепь мотивов, входящих в данный рассказ, образует сюжет его» (234). Здесь Н. П. Андреев, в принципе, следует характерной для фольклористики тенденции «овеществления» мотива. Согласно подобным представлениям, из мотивов как таковых, как из неких «звеньев» или «кирпичиков», непосредственно складывается сюжетное повествование. Ср. высказывание Б. Н. Путилова: «Для большинства фольклористов мотив в фольклорном произведении – это относительно самостоятельный, завершенный и относительно элементарный отрезок сюжета».[58]
Подобные взгляды были особенно характерны для первой трети XX века, когда тенденция различения инвариантного и вариантного начала в структуре повествовательного мотива еще только складывалась, вызревала – в фольклористике в трудах В. Я. Проппа,[59] а в литературоведении – в трудах А. И. Белецкого[60] (окончательное же теоретическое оформление эта концепция получила значительно позже, в работах фольклористов 1960—80-х г.[61]). Именно дихотомическая концепция мотива послужила основой для его уподобления слову: «Мотив может быть в известном смысле уподоблен слову: он функционирует в сюжете, который, соответственно, можно рассматривать как “речь” (“parole”), но он существует реально и на уровне эпоса в целом, который мы вправе трактовать как язык (“langue”)».[62] Как слово можно рассматривать в его системном языковом статусе («лексема») и в его речевом употреблении («словоформа», «словоупотребление»), так и мотив в его инвариантном плане следует рассматривать в системе повествовательного языка, над сюжетным континуумом фольклора и литературы, и вместе с тем видеть вариантные реализации мотива в конкретных сюжетах.
Ознакомительная версия.