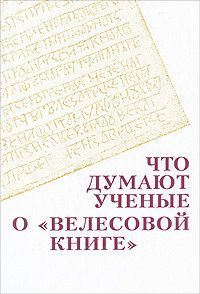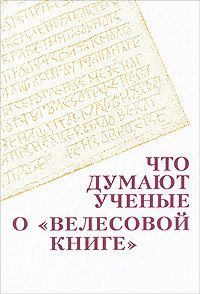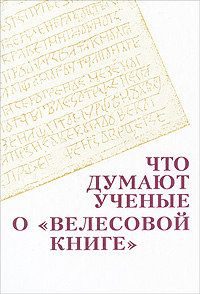Для России нового времени характерно напряженное и ревнивое отношение к Европе, иногда оно принимает форму низкопоклонства, иногда форму заносчивого нигилизма. Такое отношение нередко распространяется и на русских за рубежом: мы их бичуем или боготворим. В любом случае их влияние на культурную жизнь России поразительно сильно, хотя не всегда отвечает реальной значимости выдвигаемых ими идей.
Распространение у нас в последнее время национально-патриотических лозунгов в немалой степени связано с влиянием русской зарубежной среды. Там они выступают как порождение эмигрантского быта, они складываются в замкнутой группе, которая, часто ощущая свою ущемленность, компенсирует ее на уровне мифа. Этому социально-психологическому феномену дал в статье «О расизме» (1935) убедительное объяснение надежный и квалифицированный свидетель — Н. С. Трубецкой.[195] Для русской культуры в пределах России не характерно острое восприятие национальных проблем, скорее равнодушие к ним. Это обусловлено и количественно-пространственным фактором русской жизни, и аристократизмом русской культуры, ибо аристократизм — космополитичен. Как формула здесь удобна самохарактеристика Н. А. Бердяева: «Мой универсализм, моя вражда к национализму — русская черта».[196]
Возможно, новые жрецы язычества движимы горячим сознанием национальной полноценности или даже исключительности, в этом случае их привлекает в «Велесовой книге» миф о глубоком прошлом славян и русского народа. Тогда им следует помнить, что нация — это творение совсем недавнего прошлого (о чем уже упомянуто выше). Старые оседлые народы Европы не сохранили воспоминаний и легенд о кочевой праистории. Это вовсе не потому, что их историческая память коротка: народ, перешедший к оседлой жизни, очень скоро теряет самоотождествление с предыдущей стадией своего бытия. Подумайте сами: будет ли зажиточный крестьянин мечтать о шатре и скрипучей цыганской колымаге? Такая карьера соблазнит разве что бобыля. По всей видимости, и этническое самоотождествление, и формы языка, и формы народной словесности приобрели свой исторически засвидетельствованный вид уже в период оседлой жизни народа, иными словами, славяне стали славянами лишь на новом месте своего постоянного обитания. Это место современная этнография называет прародиной и ищет его для славян либо в Полесье, либо на Лабе (Эльбе).
Но возможно, новые жрецы движимы той религиозной идеей, на которую недвусмысленно указывают названия их союзов. Сколь ни странными могут казаться сегодня языческие верования, убеждения и веру должно уважать, не станем превращать наш спор в религиозный диспут. Скажу лишь, что в культурной апологии славянского язычества есть смысл.
Увлеченные идеями прогресса, мы часто закрываем глаза на то, что, как всякая социальная революция, Крещение Руси принесло не только приобретения, но и потери. Крещение Руси открыло исторический период и наглухо закрыло доисторический, поэтому так бедна оказалась наша «доисторическая» память. Если на языческой Руси и была письменность, то применение ее было ограничено торговлей и финансами, редкими дипломатическими казусами вроде договоров с греками, какими-то хроникальными заметками. Произведения народной словесности, например былины, не записывались, языческий культ не нуждался в текстах. Бесписьменную культуру нельзя оценивать только отрицательно и нельзя воображать, что всякая развитая культура обязательно письменная. Мы знаем, что Сократ не пользовался письмом, что изощренные ведические и буддийские трактаты в Индии столетиями сохраняли свою стабильность в устной форме. Широкое применение письменности на Руси началось лишь с приходом христианства, потому что рецитация (чтение вслух) довольно значительного корпуса текстов является непременным условием христианского богослужения. Но в новых условиях письменная фиксация дохристианской словесности оказалась невозможна. Христианский перевод Св. Писания появился на таком языке, который мало отличался от обиходной речи. Этот язык стал языком всей письменности, в результате церковнославянскому влиянию подвергались и такие внехристианские произведения, как «Русская Правда» и грамоты. У христианских народов Европы чтение Св. Писания и церковная литургия осуществлялись на латыни, это давало свободу местным обиходным языкам в области народной словесности. Так, оказались записаны в XII–XIII веках «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Си-де», «Нибелунги», скандинавские саги. У нас случайно спасся лишь фрагмент эпоса — «Слово о полку Игореве».
Драма и трагедия — спутники человеческой истории, их не видит близорукий мечтатель-историософ. Жаль потерь, но нельзя отказаться от своего исторического прошлого, сочинить себе других родителей, другое происхождение. Сознавая потери, не будем принимать детские погремушки за утраченные ценности.
И. Н. Данилевский
ПОПЫТКИ «УЛУЧШИТЬ» ПРОШЛОЕ: «ВЛЕСОВА КНИГА» И ПСЕВДОИСТОРИИ
В 1960 г. в Советский славянский комитет АН СССР поступила фотография дощечки с вырезанными письменами. Ее прислал биолог С. Парамонов, более известный под псевдонимом С. Лесной. Несколько лет он занимался изучением удивительного памятника письменности — так называемой «Влесовой книги». Фрагмент ее и был направлен на экспертизу в Славянский комитет.
Судя по сопроводительным материалам «книга» эта представляла собой дощечки с письменами на них. Они были обнаружены в 1919 г. полковником Белой армии А. Ф. Изенбеком в разграбленном имении где-то на Украине (предположительно в Харьковской губернии).
В холщовом мешке, куда они были собраны денщиком А. Ф. Изенбека, дощечки совершили путешествие в Бельгию. Там в 1925 г. Изенбек познакомил с ними своего нового приятеля, Ю. П. Миролюбова. Как пишет О. В. Творогов:
«…инженер-химик по образованию, Ю. П. Миролюбов не был чужд литературных занятий: он писал стихи и прозу, но большую часть его сочинений (посмертно опубликованных в Мюнхене) составляют разыскания в области религии древних славян и русского фольклора. Миролюбов поделился с Изенбеком своим замыслом написать поэму на исторический сюжет, но посетовал на отсутствие материала. В ответ Изенбек указал ему на лежащий на полу мешок с дощечками («Вон, там в углу, видишь мешок? Морской мешок? Там что-то есть». «В мешке я нашел, — вспоминает Миролюбов, — "дощьки", связанные ремнем, пропущенным в отверстия»). И с той поры Ю. П. Миролюбов в течение пятнадцати лет занимается переписыванием текста с дощечек. Изенбек не разрешает выносить дощечки, и Миролюбов переписывает их либо в присутствии хозяина, либо оставаясь в его "ателье" (Изенбек разрисовывал ткани) запертым на ключ. Миролюбов переписывал, с трудом разбирая текст и, по его словам, реставрируя пострадавшие дощечки («стал приводить в порядок, склеивать, склеивать…», — вспоминает Миролюбов). Он вспоминал также: "Я смутно предчувствовал, что я их как-то лишусь, больше не увижу, что тексты могут потеряться, а это будет урон для истории… Я ждал не того! Я ждал более или менее точной хронологии, описания точных событий, имен, совпадающих со смежной эпохой других народов, описания династий князей и всякого такого материала исторического, какого в них не оказалось". Какую часть текста В[лесовой] К[ниги] Миролюбов переписал, С. Лесной установить не смог. В 1941 г. Изенбек умирает, и дальнейшая судьба дощечек неизвестна»[197].
Рассказ о знакомстве Ю. П. Миролюбова с сокровищем А. Ф. Изенбека удивительно напоминает другую историю:
«Старик извлек из своей набедренной повязки грязный, потрепанный парусиновый мешочек. Из него он вытащил нечто похожее на спутанный клубок бечевок, сплошь в узлах. Но это были не настоящие бечевки, а какие-то косички из древесной коры, столь ветхие, что, казалось, они вот-вот рассыплются от одного прикосновения; и в самом деле, когда старик дотронулся до них, из-под пальцев его посыпалась труха.
— Письмо узелками — это древняя письменность майя, но теперь никто их языка не знает, — тихо произнес Генри.
Клубок был вручен Френсису, и все с любопытством склонились над ним. Он был похож на кисть, неумело связанную из множества бечевок, сплошь покрытых большими и маленькими узелками. Бечевки тоже были не одинаковые: одни — потолще, другие — потоньше, одни — длинные, другие — короткие. Старик пробежал по ним пальцами, бормоча себе под нос что-то непонятное.
— Он читает! — торжествующе воскликнул пеон. — Узлы — это наш древний язык, и он читает по ним, как по книге».[198]
Настораживает совпадение деталей в этих историях: речь идет о холщовом мешке, в котором хранятся связки старинных письмен, и сегодня никто не может прочитать, но все знают, что в них рассказывается о древнейшей истории народа. Судя по всему, это не случайно. Ю. П. Миролюбов просто хорошо знал творчество Джека Лондона. И, когда фантазия ему отказала, использовал готовые образы.