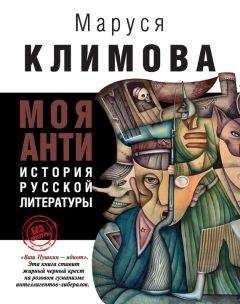В конце концов, я прочитала рассказы Гаршина, но мне они, против ожидания, совершенно не понравились – какая-то бодяга о свободолюбивых студентах. Кроме того, я изучила его биографию и обнаружила, что это был действительно психически больной человек – даже ходил к Толстому в Ясную Поляну и обсуждал с ним планы устройства счастья всего человечества. Да и портрет Гаршина меня разочаровал: дебильная физиономия в форменной фуражке, блаженный взгляд вытаращенных глаз. Гаршин же, судя по фуражке, вроде был железнодорожником, так что в каком-то смысле это еще хорошо, что он решил посвятить себя литературе, направил свою энергию в этом направлении. Сумасшедший железнодорожник – такой вполне мог бы и стрелки не туда перевести. Кажется, его сказки до сих пор цитируются в учебниках по психиатрии как наиболее яркие иллюстрации клинической картины определенных заболеваний.
Все, впрочем, познается в сравнении. Был ведь еще и некто Успенский, который описывал жуткую тяжелую жизнь крестьян, сладострастно смакуя подробности их беспросветного существования. Помню, когда я прочла пару его рассказов, то после этого целую неделю не могла прийти в себя, впала в депрессию. И книги его, целое собрание сочинений, стоявшее в книжном шкафу в большой комнате, все были в твердых добротных картонных переплетах темно-коричневого цвета дерьма. Меня до сих пор передергивает, стоит мне вспомнить этого писателя. Там у него постоянно то младенцы тонут в корытах, то крестьян давят тяжелыми телегами, они надрываются от непосильного труда, ну и пьют, естественно. В общем, чистый мрак, настоящая «чернуха». Прическа у Успенского была примерно такая же, как у Тургенева или у Чернышевского, очевидно, такие тогда были в моде.
Сегодня мне даже немного жаль, что в школе я ничего не знала про такого поэта, как Александр Добролюбов. Пожалуй, он был поколоритнее Гаршина и Надсона. Тоже писал какой-то горячечный бред, стремясь слиться с природой, с Богом и со всяким живым существом; при этом организовал среди студентов декадентскую тусовку и на собраниях воспевал красоту самоубийства, курил гашиш, а у себя в комнате даже выкрасил в черный цвет стены и потолок. Кажется, под его влиянием несколько человек и в самом деле покончили с собой. В конце своей творческой карьеры он обрядился в лапти, посконную рубаху и отправился странствовать по Руси, в общем, так и исчез где-то, окончательно слившись с природой… А может быть, это и хорошо, что в детстве ни я, ни девочка Аня Тарасова ничего не слышали про такого поэта, как Александр Добролюбов? Кто знает?..
Одним словом, история русской литературы где-то к концу девятнадцатого столетия и вправду начинает немного смахивать на историю болезни. Как будто скрытые до той поры симптомы вдруг выплыли наружу, проступили, как пятна на лице, обрели законченную форму, нашли своих выразителей… Однако историк литературы не должен поддаваться на все эти болезненные провокации – пусть домохозяйки оплакивают печальную участь гаршиных, надсонов и успенских, а историк литературы себе такого позволить не может. Ведь он всего лишь бесстрастный арбитр, а не человек. И писатель для него тоже уже не совсем человек, а прежде всего именно писатель, который живет и умирает вместе с литературой, подчиняясь суровым законам искусства, а не природы. Поэтому историк литературы должен уметь безо всякого колебания подавлять в себе малейшие проявления жалости (в соответствии с наставлением Ницше): он должен быть способен подтолкнуть падающего, подкрасться, например, сзади к склонившемуся над лестничным пролетом Гаршину и помочь ему совершить свой последний полет. Пусть летит себе, голубчик! Все-таки это его единственный шанс взволновать воображение безмозглых школьниц.
Один мой парижский знакомый (ныне очень известный писатель) несколько лет назад в приливе откровенности признался мне, что вынужден был отнять у умирающего писателя Максимова кислородную подушку и не отдавать до тех пор, пока тот не подписал ему рекомендацию в ПЕН-клуб. Вот и историк литературы должен, по-моему, любить литературу не меньше, чем этот мой знакомый – ПЕН-клуб. Без колебаний он должен отнимать кислородную подушку у таких, как Надсон, – пусть задыхаются! Тому же, кто не чувствует в себе подобной твердости, лучше за историю литературы и не садиться… Что касается меня, то я, кажется, вполне созрела для подобной миссии. Не то чтобы Гаршин или Надсон не способны меня теперь разжалобить своими болезнями, но в случае необходимости я могла бы, наверное, запросто подорвать пару домов с мирно спящими, слегка простуженными писателями и домохозяйками или же пустить под откос целый состав с чахоточными поэтами, направляющимися на отдых в Коктебель. И все потому, что я очень хорошо себе представляю, что бывает, когда кому-нибудь из болезненных представителей творческой интеллигенции удается вышибить у своих почитателей хотя бы самую скупую слезу. Последствия не заставят себя долго ждать! Уж так устроены люди: стоит им только почувствовать, что что-нибудь отломится, если они будут вести себя в литературе тем или иным образом, как они сразу же всей кучей кидаются в этом направлении и начинают всех нещадно доставать… Своими страданиями, например.
Никогда не забуду, как доставали меня в детстве стихами слепого поэта-фронтовика, особенно про отставшую от поезда собачку… Да и другие поэты-фронтовики, в общем-то, тоже были ненамного лучше, даже вспоминать не хочется. Был еще какой-то фокусник, умудрившийся написать целую книгу пальцами ног, потому что в результате аварии лишился обеих рук. Книга называлась «Всем смертям назло», а вот фамилию автора я уже не помню, да и книгу, к счастью, так и не прочитала, хотя учительница литературы настоятельно рекомендовала ее для внеклассного чтения.
И «культовый» советский писатель Николай Островский тоже был совершенно слепой и, кажется, даже не мог ходить, передвигался в инвалидном кресле, хотя точно не знаю, были ли тогда такие кресла, может, он просто сидел дома в обычном кресле, и его переносила прислуга. Островский родился в городе Шепетовке, где жила моя бабушка, и я каждое лето к ней приезжала на каникулы. Я, кстати, тогда совершенно случайно, исследуя центр города Шепетовки, обнаружила там рядом с кинотеатром небольшой домик, выкрашенный в голубой цвет, с табличкой: «Дом-музей Николая Островского». Поскольку вход туда был бесплатным, я частенько в этот музей заходила, это стало для меня способом провести время до начала очередного сеанса в кинотеатре – других развлечений в городе Шепетовке не было.
Вот тогда я и узнала, что Островский родился именно в Шепетовке, а следовательно, все события, описанные в его романе «Как закалялась сталь», разворачивались именно там. Помню, в этом музее были под стеклянными колпаками представлены очень искусно и с любовью сделанные маленькие домики, в которых якобы раньше жил Островский и его родители, – вот только до сих пор не понимаю, почему этих домиков было несколько. Там даже можно было нажать на выключатель – и в окошечках домиков загорался свет, поэтому особенно приятно было приходить в музей вечером, когда уже было темно. Но, к сожалению, музей закрывался уже в шесть часов, так что только зимой, в ранние сумерки, мне удавалось в полной мере насладиться этим зрелищем, однако зимой я в Шепетовку практически не приезжала, только, наверное, один раз, на зимние каникулы. Особенно мне в этом музее нравилась маленькая хатка, или мазанка, как говорят на Украине, вокруг которой были сделаны сугробы снега из ваты – когда в окошечках горел свет, она выглядела особенно уютно. Я все подолгу ее рассматривала, заглядывая в окошечки, тщетно надеясь, что вот сейчас здесь появятся маленькие гномики – к тому же через окошечки можно было разглядеть печь, стол, покрытый вышитой скатертью, стульчики, кроватку, на печи даже стояли чугунки и мисочки. Но вот гномиков не было ни одного. А в соседнем зале музея красовался огромный памятник Островскому, сидящему в кресле, судорожно вцепившись в подлокотники своими тощими жилистыми руками, запрокинув назад голову, настоящий череп, ноги его были закрыты пледом. В витрине также были выставлены тарелка с обитыми краями, алюминиевые ложка и вилка, а еще обгрызанный карандаш и картонка с пробитыми в ней линейками – при помощи этого он писал, чтобы строчки получились ровными. Хотя, кажется, сам Островский писал мало – в основном диктовал свои произведения жене, выполнявшей при нем функции секретарши. Но больше всего времени я проводила в зале с маленькими домиками. Остальные комнаты меня мало интересовали – там было холодно, пусто и скучно. Да, рядом были еще выставлены подарки, которые местные предприятия преподносили музею на очередной юбилей Островского. Сахароперерабатывающий завод подарил сахарный бюст писателя, железнодорожники – красное паровозное колесо с портретом Островского в центре, трикотажная фабрика – великолепный огромный рушник с вышитым опять-таки портретом Островского, фарфоровый завод – вазу, чашку и блюдце, на которых были профили писателя, и так далее, всего я, к большому сожалению, не запомнила.