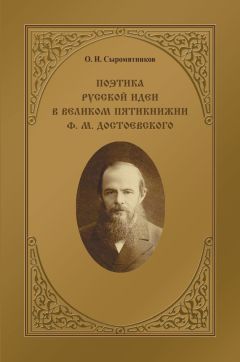Ознакомительная версия.
Во время работы над романом русская идея постоянно находилась в поле онтологического и творческого внимания писателя. Н. Ф. Буданова замечает, что «уже ко времени работы над романом «Идиот» на основе развития «почвеннических» взглядов <…> у Достоевского складывается своеобразная историко-философская концепция Востока и Запада с её главной идеей особой роли России, призванной объединить славянский мир и нравственно обновить духовно разлагающуюся Европу»[90]. В сентябре 1867 г. писатель посетил заседание конгресса «Лиги мира и свободы», проходившего в Женеве. Он так сообщает об этом С. А. Ивановой: «Что эти господа, – которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, – социалисты и революционеры, врали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противуречие себе – это вообразить нельзя! И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтоб всё было общее по приказу, и проч. Всё это без малейшего доказательства, всё это заучено ещё 20 лет назад наизусть[91], да так и осталось. И главное, огонь и меч – и после того как всё истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир» [28, 2; 224–225].
Достоевский много внимания уделяет внешнему аспекту русской идеи, анализируя события европейской жизни: «Небо заволакивается облаками. Наполеон объявил, что сам уже заметил у себя на горизонте чёрные точки. Чтоб поправить мексиканский, итальянский и, главное, германский вопросы, ему надо отвлечь умы войною и угодить французам старым средством: военным успехом. И хоть французов теперь этим, может быть, и не надуешь, но война очень может быть, что и будет» [28, 2; 223]; «Что-то скажет политика? Чем-то развяжутся все эти ожидания. Наполеон как будто к чему-то и готовился» [28, 2; 228]; «Для чего Наполеон увеличил своё войско и рискнул на этакую неприятную для народа своего вещь, в такой критический для себя момент? Ч<ёрт> его знает. Но добром для Европы не кончится. <…>. Плохо, если и нас замешают. Кабы только хоть два годика спустя. Да и не один Наполеон. Кроме Наполеона страшно будущее, и к нему надо готовиться. Турция на волоске, Австрия в положении слишком ненормальном <…>, страшно развившийся проклятый пролетарский западный вопрос (об котором почти и не упоминают в насущной политике!) <…> К этому России непременно надо готовиться и поскорей, потому что это, может быть, ужасно скоро совершится» [28, 2; 281].
Но значительно большее внимание писатель уделяет месту России в мире. В письме А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 г. он определяет русскую идею, говоря, что прогресс европейских народов – лишь видимость: «Да их жизнь так устроилась! А мы в это время великую нацию составляли, Азию навеки остановили, перенесли бесконечность страданий, сумели перенести, не потеряли русской мысли, которая мир обновит, а укрепили её, наконец, немцев перенесли, и всё-таки наш народ безмерно выше, благороднее, честнее, наивнее, способнее и полон другой, высочайшей христианской мысли, которую и не понимает Европа с её дохлым католицизмом и глупо противуречащим себе самому лютеранством» [28, 2; 243]. Впоследствии эта мысль конкретизируется: «Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием…), и это совершится в какое-нибудь столетие – вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось, надобно чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно» [28, 2; 260].
Первенство России в славянском мире будет достигнуто не оружием: «Да, любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, кажется, первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много созиждется. Эту мысль мы скажем Европе, которая в ней ничего ровно не понимает» [28, 2; 280]. Осуществление этой цели связано с борьбой: «Столкновение страшное новых людей и новых требований с старым порядком. Я уже не говорю про одушевление их идеей: вольнодумцев много, а русских людей нет». А потому «главное, самосознание в себе русского человека – вот что надо» [28, 2; 281]. Эта задача представляется особо актуальной после того, что Достоевский увидел в Европе: «Женева – верх скуки. Это древний протестантский город, а впрочем, пьяниц бездна» [28, 2; 224]; «И как здесь грустно, как здесь мрачно. И какие здесь самодовольные хвастунишки! Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным. Все здесь гадко, гнило <…>. Всё здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет» [28, 2; 226]; «О, если б Вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проехать, путешествуя. Нет, поживите-ка! Но не могу Вам теперь описать даже и вкратце моих впечатлений; слишком много накопилось. Буржуазная жизнь в этой подлой республике развита до nec-plus-ultra[92]. В управлении и во всей Швейцарии – партии и грызня беспрерывная, пауперизм, страшная посредственность во всём; работник здешний не стоит мизинца нашего: смешно смотреть и слушать. Нравы дикие; о если б Вы знали, что они считают хорошим и что дурным. Низость развития: какое пьянство, какое воровство, какое мелкое мошенничество, вошедшее в закон в торговле. Есть, впрочем, несколько и хороших черт, ставящих их всё-таки безмерно выше немца. (В Германии меня всего более поражала глупость народа: они безмерно глупы, они неизмеримо глупы)» [28, 2; 243] и т. д.
И в русском характере, и в русской жизни есть много отрицательного, замечает Достоевский, «но во всяком случае, наша сущность, в этом отношении, бесконечно выше европейской. И вообще, все понятия нравственные и цели русских – выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте» [28, 2; 260]. А потому «нечего обращать внимание на разные частные случаи; было бы целое и толчок и цель у этого целого, а всё остальное и невозможно иначе при таком огромном перерождении, как при нынешнем великом государе» [28, 2; 280]. Речь идёт о реформах Александра II, поставивших Россию на порог исторического выбора: в какое «будущее» идти и что взять в него из «прошлого».
Как видим, русская идея в её внешнем и внутреннем аспектах постоянно находилась в фокусе внимания Достоевского, образуя онтологический фон создания романа.
* * *
В отличие от остальных романов великого пятикнижия, основу сюжета «Идиота» образует не криминальная, а любовная фабула. В центре внимания автора находится внутренний мир князя Мышкина, желающего любить одновременно двух женщин: и Настасью Филипповну и Аглаю Епанчину [8; 484]. Однако следует помнить, что этот роман написал тот же человек, который создал «Преступление и наказание» и «Бесы». Это означает, что «Идиот» не может быть принципиально иным в идейном смысле. Тот же писатель говорит то же, что и всегда, но говорит иначе.
Определяя главную идею творчества Достоевского, В. Н. Захаров пишет: мечта ««восстановить и воскресить человека!» <…> была сокровенной идеей творчества Достоевского от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых»»[93]. Исследователь говорит о сложном пути воплощения этой идеи в романе: «Достоевский задумал один – написал другой роман»[94]. В результате идея воскресения одного человека приобрела значение русской идеи: «В осмыслении состояния и роли России, идей и действий людей состоит новая миссия героя»[95]. К сожалению, это замечательное наблюдение не получило дальнейшего развития, направление которого указал сам исследователь: «Важную роль в понимании романа играют символы, которые становятся атрибутами внутренней темы (у нас – внутренней идеи. – О. С.) романа»[96]. Очевидно, что русская идея, являясь фило софемой-символом спасения России, может быть выражена лишь на символическом уровне. И Достоевский понимал, что любая попытка раскрыть эту символику прямыми понятиями непосредственно в художественном тексте неизбежно повредит художественности.
Пик исследовательского внимания к роману в постсоветское время пришёлся на середину 1990‑х годов. В обстоятельной работе В. А. Свительского[97] рассматриваются основные подходы к изучению романа в XX веке. Исследователь указывает на ряд наиболее значимых наблюдений над сюжетом, композицией и поэтикой романа за всю историю его изучения. Так, В. Ф. Ермилов ещё в 1956 году отмечал «наличие двух неслаженных романов в одном»[98]. И уже в наше время В. Е. Ветловская говорит о «взаимодействии двух сюжетов в романе – внешнего и потаённого внутреннего»[99]. На «резкое изменение типа повествования» со второй части романа указывают К. А. Степанян[100], В. Н. Захаров и многие другие исследователи.
Ознакомительная версия.