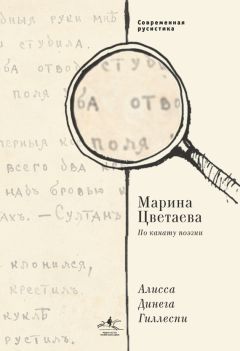Ознакомительная версия.
42
Светлана Бойм называет поэтессу «экзальтированной литературной ткачихой, по ошибке выбравшей для домашнего шитья не ту материю – слова вместо пряжи» (Boym S. Death in Quotation Marks. P. 193); в рамках этой логики для Цветаевой нет разницы между подневольной пряхой и играющей на свирели пастушкой.
Сочиняя новое стихотворение, Цветаева отбивала ритм, барабаня пальцами по столу; только полностью погрузившись в ритмический контур, она начинала заполнять его словами: «Указующее – слуховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу» (5: 285). Большую роль здесь сыграло ее детское музыкальное образование, см. эссе «Мать и музыка».
Склонность Цветаевой к длительным прогулкам часто служит основанием для сближения с другими любителями этого занятия, в том числе с Максимилианом Волошиным, Александром Пушкиным, Николаем Гронским и Константином Родзевичем (ср.: «Живое о живом», 4: 160–161; «Преодоленье…», 2: 287–288; «Поэт-альпинист», 5: 435–459; «Поэма горы», 3: 24–30; «Поэма конца», 3: 31–50; «Ода пешему ходу», 2: 291–294).
Образ мальчика-барабанщика с раннего детства воспринимался Цветаевой трагически, о чем она говорит в эссе «Мой Пушкин»: «Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся – это любовь» (5: 68).
О важности хронологии в поэтике Цветаевой пишет Ольга Питерс Хейсти: «Каким бы странным, если не совершенно невозможным, ни казался этот настойчивый акцент на хронологии для поэта, который в стольких своих произведениях объявлял войну мере времени и границам темпоральности, необходимо понимать, что источник его – в попытке перенести диалектическое соотношение целого и части (в лирической поэзии) в область темпоральных явлений» (Hasty O. P. Poema vs. Cycle in Cvetaeva’s Definition of Lyric Verse // Slavic and East European Journal. 1998. № 32: 3. P. 392).
В анкете, присланной ей в 1926 году Пастернаком, Цветаева назвала Державина вместе с Некрасовым своими любимыми русскими поэтами прошлого. В эссе 1934 года «Поэт-альпинист» она утверждает свое родство с Державиным: «<…> между мной и Державиным – есть родство. Я не могу узнать себя, скажем, ни в одной строке Баратынского, зато полностью узнаю себя в державинском “Водопаде” – во всем, вплоть до разумности замечаний о безумии подобных видений» (5: 458). Критики обнаруживали влияние Державина в ряде произведений Цветаевой, а Глеб Струве связал использование Цветаевой в ее зрелом творчестве контрастного соединения высокого и низкого стилей с поэтикой Державина. Подробнее о связи Цветаевой с Державиным см.: Makin M. Marina Tsvetaeva: Poetics of Appropriation. Oxford, England: Clarendon Press, 1993. P. 43, 108–109, 228, 299; русский перевод: Мейкин М. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1997. С. 48, 106, 202, 260; Karlinsky. Marina Cvetaeva: Her Life and Art. P. 131, 223; Кононко Е. Г. Р. Державин в творчестве М. Цветаевой // Вопросы русской литературы (Львов). Вып. 2. 1985. С. 44–49; Crone A. L. and Smith A. Creating Death: Derzhavin and Tsvetaeva on the Immortality of the Poet // Slavic Almanach: The South African Year Book For Slavic, Central and East European Studies. 1995. № 3: 3–4. P. 1–30; Фохт Т. Державинская перифраза в поэзии М. Цветаевой // Studia Russica Budapestinensia. 1995. № 2–3. P. 231–236.
Державин Г. Р. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1957. С. 283.
В эссе «Мой Пушкин» Цветаева прямо высказывает неприязнь к знаку вопроса: «<…> вопрос, в стихах, – прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое отчего требует и сулит оттого и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике» (5: 76–77).
Тонкое описание того, как работает здесь поэтика Цветаевой, дает Ариадна Эфрон, говоря, что собеседников «творческого склада» «зачастую раздражала или отпугивала настойчивость, с которой Марина, внедряясь в их собственный строй, перестраивала и перекраивала их на свой особый, сильный и несвойственный им лад, при помощи своего особого, сильного и несвойственного им языка, таланта, характера, самой сути своей» (Эфрон А. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. М.: Советский писатель, 1989. С. 140).
Замечание Р. Гуля (из личного письма) цитирует Саймон Карлинский в своей книге «Marina Tsvetaeva: the Woman» (P. 176). О мифопоэтике Цветаевой см. две работы Светланы Ельницкой: «Поэтический мир Цветаевой: Конфликт лирического героя и действительности» и «Возвышающий обман: Миротворчество и мифотворчество Цветаевой» (в сб.: Marina Tsvetaeva: 1892–1992 / Ed. Svetlana El’nitskaia and Efim Etkind. Northfield, Vermont: The Russian School of Norwich University, 1992. P. 45–62), а также статью Збигнева Мациевского «Прием мифизации персонажей и его функция в автобиографической прозе М. Цветаевой» (в сб.: Марина Цветаева: Труды Первого международного симпозиума / Ed. Robin Kemball. Bern: Peter Lang, 1991. P. 131–141). Идея поэтического заимствования лежит в основе исследования творчества Цветаевой, предпринятом Майклом Мейкином: он утверждает, что Цветаева никогда не создает собственные мифы, а только заимствует у других: «Предположим, что ей действительно было не по силам “придумать” сюжет» (Мейкин. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. С. 14). На мой взгляд, эта тенденция в творчестве Цветаевой не имеет абсолютного характера, и даже когда она, о чем говорилось выше, присваивает чужие сюжеты, они становятся живыми сущностями, которые одновременно «присваивают» ее (ср. в ее письме Пастернаку, написанном по окончании поэмы «Молодец», являющейся переработкой сказки Афанасьева: «<…> только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались! <…>» (6: 236)).
Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys. P. 6.
Так, например, Ольга Питерс Хейсти отмечает, что дихотомическое понимание Цветаевой женской сексуальности выражается одновременно «в настойчивой сексуальности Офелии и в утверждении Эвридикой асексуального товарищества поэтов», и далее добавляет, что «и эти антитетические требования способен успешно соединить именно язык» (Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys. P. 160).
Нортроп Фрай замечает, что «игривость» можно рассматривать как именно ту черту, которая отмечает разграничительную линию между реальностью и искусством. «В поэзии физическое или действительное противопоставлено не тому, что существует в области духа, а тому, что существует гипотетически <…>. Превращение действия в подражание, переход от совершения ритуала к игре в ритуал представляет собой одну из ключевых черт развития от дикости к культуре <…> выход факта в сферу воображения» (Frye N. Anatomy of Criticism. New York: Atheneum, 1996. P. 148).
Даже когда лирические протагонисты Цветаевой явно вымышлены, она часто (вне текста) утверждает свою личную с ними связь. Так, в письме Пастернаку она называет себя Марусей, героиней поэмы «Молодец»: «Ведь я сама – Маруся <…>» (6: 249); аналогичным образом она идентифицирует себя с героиней своей романтической драмы «Метель»: «Я, молча: “Дама в плаще – моя душа, ее никто не может играть”» (4: 298).
Горчаков Г. Марина Цветаева: Корреспондент – Адресат // Новый журнал. 1987. № 167. С. 158–159.
Я не хочу сказать, что в реальности Цветаева была совершенно одинока или что у ее произведений не было читателя. На самом деле, несмотря на все ее возражения, письма дают достаточно доказательств того, что, даже в те периоды, когда стихи ее не печатались, она всегда имела круг друзей и поклонников, воспринимавших ее как настоящего поэта и ценивших ее гений. И все же предпринимавшиеся ею поэтические исследования масштабов и границ собственной субъективности были неизменно отмечены высокопарной самопоглощенностью, вообще характерной для ее выступлений на лирической сцене, создавая иллюзию полной изоляции поэта – иллюзию, которую сама она культивировала, особенно в годы эмиграции (ср.: Karlinsky. Marina Tsvetaeva: The Woman. P. 176–178).
Эфрон А. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. М.: Советский писатель, 1989. С. 89.
Цветаева М. И. Неизданное: Сводные тетради / Подготовка текста, предисловие и примечания Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко. М.: Эллис Лак, 1997. С. 68.
Это описание несколько расходится с фактами: в 1916 году, когда был написан первый цикл Цветаевой к Блоку, ей было не двадцать, а двадцать три, а «невстреча» с Блоком произошла не семью, а четырьмя годами спустя (в 1920 году). Фраза в кавычках – из стихотворения Цветаевой «Ты проходишь на Запад Солнца…», о котором речь пойдет далее в этой главе. Весь пассаж взят из письма Пастернаку, где Цветаева сводит воедино обстоятельства своей прошлой невстречи с Блоком в качестве аргументов против нынешней встречи с Пастернаком; подробно эту тему я рассматриваю в следующей главе. Пастернак становится (отдаленным во времени) слушателем для творящегося в одиночестве поэтического эксперимента Цветаевой.
Ознакомительная версия.