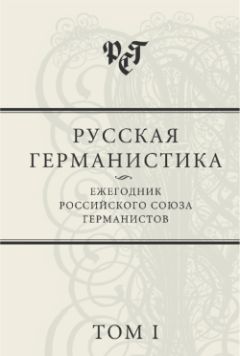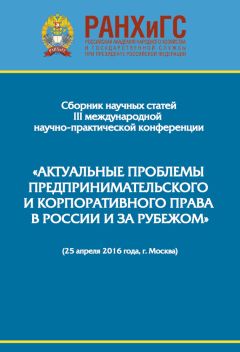Ознакомительная версия.
На этом фоне бросается в глаза тот факт, что первые фундаментальные исследования русских германистов относятся именно к области сравнительного литературоведения или с нею соприкасаются. До середины ХХ в. «чистая германистика» – почти что исключение. Уже Ф. А. Браун, много писавший для энциклопедий и словарей, был известен как авторитетный ученый прежде всего своими трудами по взаимовлиянию древнегерманских и древнеславянских культур. М. Н. Розанов предпосылает своей книге о Ленце эпиграф из Лермонтова, подробно исследует русские связи немецкого поэта и публикует ряд его писем из рижских архивов.[17] У Жирмунского среди его работ по немецкой литературе главное место несомненно занимает уже упоминавшаяся мной книга «Гёте в русской литературе», да и его поздняя работа о Гердере[18] явно «обслуживает» теорию сравнительного литературоведения.
* * *
Важным событием в истории сравнительного литературоведения стала, как известно, конференция по взаимосвязям национальных литератур, состоявшаяся в Институте мировой литературы АН СССР в 1960 г. на фоне идеологической «оттепели».[19] В теоретическом отношении она дала не много; предлагалось множество разных классификаций – какие встречаются виды взаимодействия литератур, какие бывают формы влияний. Мне представляется, что это не так важно. Можно, конечно, разделить рецепцию на такие рубрики, как перевод, критическая оценка и творческое усвоение, но какой в этом смысл, если перевод сплошь и рядом оказывается формой творческой переработки, критическая статья – полноценной художественной прозой, а художественное произведение заключает в себе критическую переоценку своих претекстов. Можно, конечно, провести границу между влиянием общественных идей, нравственной личности писателя, техники повествования и т. д., однако углубленный анализ такие границы, как правило, не подтверждает, а отменяет.
Значение дискусии 1960 г. было не теоретическое, а практическое – в условиях идеологического диктата она санкционировала, дала «зеленый свет» широкому применению сравнительного метода, в том числе и в германистике.
Подавляющее большинство русских исследований по сравнительной литературе посвящено немецко-русским связям, т. е. восприятию немецкой литературы в России. Первое место по количеству посвященных им работ занимают в XVIII в. Гёте, а в XIX-м – Гейне, с большим отрывом за ними следуют Лессинг и Шиллер, Гофман и Нова-лис, в ХХ в. лидирует Рильке, а в последние годы еще, пожалуй, Кафка. Вместе с тем существует значительное количество научных статей, посвященных восприятию творчества писателей второго и третьего ряда.[20]
Интерес к «маленьким» сюжетам – свидетельство зрелости научной мысли, за ним стоит понимание того, что научная ценность сравнительно-исторических исследований определяется не масштабом сопоставляемых явлений, а интенсивностью рецепции и характером влияния. Именно такой подход к отбору компаративистского материала нуждается, на мой взгляд, в более последовательном осмыслении. Следует со всей возможной точностью разграничивать случаи, когда проблема влияния может быть поставлена и когда она д о л ж н а быть поставлена. Поясню это примером.
В связи с изучением творчества Жан-Поля М. Л. Тронская написала статью «Жан-Поль Рихтер в России» (1937). Статья эта интересна и полезна тем, что проливает дополнительный свет в обе стороны – на Жан-Поля и на русских поэтов-любомудров. Однако в основных своих чертах творчество Жан-Поля вполне поддается пониманию и без учета его русской рецепции, и также анализ русской идеалистической «поэзии мысли» 1830-х гг. вполне может состояться без учета того не особенно значительного влияния, которое оказало на нее творчество этого немецкого писателя. Без Шиллера и Шеллинга обойтись, пожалуй, нельзя, а без Жан-Поля – можно. Л. Я. Гинзбург в книге «О лирике» прекрасно без него обходится. И сама М. Л. Трон-ская обходится без русской рецепции, когда позднее она подробнейшим образом анализирует романы Жан-Поля в своей книге «Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения» (1962).
Жан-Полю посвящена последняя и самая большая глава этой книги. А глава первая целиком посвящена Стерну – и это в книге о немецком романе. Стерн в этой книге необходим, потому что весь немецкий роман данного типа – стернианский, и без Стерна, без анализа его влияния Жан-Поль непонятен, так же как, например, – чтобы взять любые произвольные русские примеры – Фет непонятен без Шопенгауэра, Блок без немецкого романтизма и Гейне, ранний Горький без Ницше. Мне думается, что, принимаясь за ту или иную тему, следует ясно отдавать себе отчет, какое значение имеет в данном случае сравнительно-исторический подход – периферийное, подсобное или же центральное, такое, что без анализа влияния нельзя обойтись. В последнем случае сравнительное литературоведение перестает быть обособленной отраслью литературной науки, допустим германистики. Это не область со своим особым предметом, а один из методов исследования того же самого предмета – немецкой литературы.
Подобным же образом дело обстоит и в русско-немецких литературных связях, в вопросе о восприятии русской литературы в Германии. Невозможно, например, раскрыть тему «немецкий модернизм», если не ввести в анализ восприятие и влияние на немцев Достоевского, да и Толстого тоже, как это сделано было в свое время в книгах Т. Л. Мотылевой, Г. М. Фридлендера и продолжает делаться. Невозможно написать убедительную работу о немецком авангарде 20-х гг., не поставив вопрос о влиянии русской революции и русских художников.[21] Для молодого Гауптмана непременно нужен Толстой, для Рильке – русский опыт. Но вполне возможно написать, скажем, об Альбрехте Галлере или о Шиллере, ни словом не упомянув о том, что у того и другого возникает в какой-то момент тема Сибири.[22] Я меньше всего хочу сказать, что русский эпизод в романе Галлера «Узонг» неинтересен или неважен, но если бы Галлер не читал описание Сибири, сделанное учеными путешественниками, то на месте Сибири оказался бы у него какой-нибудь другой экзотический край и Галлер остался бы тем же Галлером. Дело не в том, что тема мелкая – мелких тем не бывает, – а в том, что она периферийна, что, обращаясь преимущественно к таким темам, мы не объясняем суть явления, а вносим в уже существующее объяснение дополнительные нюансы; и если такие темы преобладают, то и все сравнительное литературоведение должно остаться наукой периферийной, нюансирующей.
По словам Жирмунского, «русский Гёте есть проблема русского литературного и общественного развития»;[23] также и немецкий Достоевский есть проблема развития литературы и культуры немецкой. В этом смысле русско-немецкие литературные связи должны были бы интересовать германиста в первую очередь даже больше, чем связи немецко-русские.[24] Между тем в этом направлении русскими учеными сделано, кажется, меньше, чем в обратном; о русском влиянии на немцев активнее пишут, пожалуй, в самой Германии.
Программа концептуализации исследуемого во всех этих случаях материала не может исчерпываться ни доказательством факта рецепции или влияния, ни историко-литературной мотивировкой этого факта. Не менее важно установить характер сопровождающих рецепцию семантических преобразований и объяснить этот характер из условий воспринимающей среды, воспринимающего сознания. Когда этого не делается, исследование оставляет впечатление незавершенности.
Теоретическая модель взаимодействия литератур ясно выстроена в работах Лотмана. Согласно этой модели, восприятие иноязычного текста всегда сопровождается его переводом на семиотический язык воспринимающей культуры – «перекодировкой», «интериоризацией». Однако текст-двойник, возникающий в результате этого процесса, например русский Гёте или немецкий Достоевский, никогда не становится в пространстве воспринимающей культуры «своим» до конца и полностью, он должен оставаться отчасти и чужим. Только благодаря этому он служит импульсом для развития воспринявшей культуры – в качестве образца для подражания, союзника, способствующего оформлению зреющих в ее недрах тенденций, объекта критики, нужного для того, чтобы она могла по контрасту осознать свою специфику. Новые тексты, создаваемые с ориентацией на этого «своего-чужого», могут затем ретранслироваться в исходную культуру, которая воспринимает их, снова трансформируя, как долгожданное и внутренне необходимое ей «новое слово». Один из примеров Лотмана – это массовый импорт западноевропейских текстов русской культурой XVIII – начала XIX в. и обратная волна в эпоху Достоевского, Толстого и Чехова, когда «Европа без России становится провинцией».[25] «Изучение подобных циклов таит значительно больший историко-литературный интерес, чем изучение отдельных, разрозненных фактов заимствований», – замечает в связи с этим Лотман,[26] и с этим замечанием трудно не согласиться.
Ознакомительная версия.