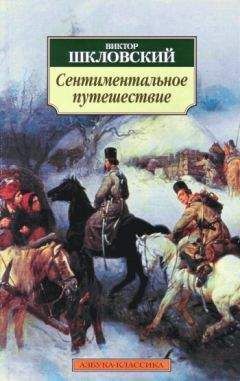Для Стерна время остроумия не прошло и не пройдет.
«А так как две эти шишки — или верхушечные украшения человеческого ума, увенчивающие все здание, — иными словами, остроумие и рассудительность; — являются, как было мной доказано, вещами самонужнейшими — выше всего ценимыми — — лишение которых в высшей степени бедственно, а приобретение, стало быть, чрезвычайно трудно».
Враги остроумия у Стерна — «большие парики», официальная наука и власть, а также «ваше преподобие» — церковники.
Право преследовать остроумие — «великая хартия» надменной глупости этих союзников.
«Большие парики» — это представители английского суда, носители практики английской общественной жизни. «Большие парики» были настолько понятным всем знаком, что великий художник Хогарт в книге «Анализ красоты»[25] иронически предлагал создать новый архитектурный ордер, используя для украшения капителей колонн вместо ионических завитков и коринфских листов аканта — парики разных качеств и претенциозности.
Стерн писал:
«Травля бедных остроумцев велась, очевидно, такими густыми и торжественными голосами и при содействии больших париков, важных физиономий и других орудий обмана стала такой всеобщей, что ввела и философа в обман. — Локк стяжал себе славу очисткой мира от мусорной кучи ходячих ошибочных мнений, — но это заблуждение не принадлежало к их числу; таким образом, вместо того, чтобы хладнокровно, как подобает истинному философу, исследовать положение вещей, перед тем как о нем философствовать, — он, напротив, принял его на веру, присоединился к улюлюканью и вопил так же неистово, как и остальные».
И в «Тристраме Шенди», где Йорик имеет значение второстепенного героя, и в «Сентиментальном путешествии», где Йорик является явно самим Стерном, Стерн при помощи своего остроумия видел противоречия там, где для Локка уже была гармония.
Остроумие Стерна обнаруживало в вещах такие противоречия, которые не могли быть разрешены в его время, они как бы подтачивали время.
Стерн на уровне своего времени, когда он рассказывает сентиментальную историю про сына бедного офицера Лефевра, — эта история занимает страничек пятнадцать и рассказана совершенно прямолинейно, — но когда Стерн бежит от смерти в путешествие по Франции или когда Стерн рассказывает историю отношений господина Шенди с его супругой, остроумие выходит за пределы рассудительности Локка.
В пуританской Англии, в стране подчеркнутой стыдливости, Стерн все время говорит о недозволенном и нескромном.
Все замаскировано шуткой и сентиментальностью.
Нарушения нравственности подробно описаны, но не совершаются.
Стерн скромен в описаниях «Сентиментального путешествия» не больше, чем «Жития святых» были скромны в описаниях искушения святого Антония.
К Йорику в гостиницу пришла облагодетельствованная им девушка. Случайно мужчина и женщина садятся на кровать. Девушка чинит жабо Йорика.
«Я предвкушал, как это приукрасит славу дня, и когда, управляясь иглою, девушка снова и снова в полном молчании проводила пальцами у моей шеи, я чувствовал колыхание лавров, которые фантазия сплела над моей головой.
При ходьбе у нее расстегнулся ремешок и пряжка на туфельке должна была вот-вот упасть… «Смотрите», — сказала fille de chambre, поднимая ногу, — и мне, по совести, ничего не оставалось, как укрепить ей, в свою очередь, пряжку; и вот, когда я вдел ремешок, — и поднял затем другую ногу в туфельке, чтобы проверить, оба ли ремешка в порядке, это вышло так неожиданно, что прелестная fille de chambre потеряла равновесие, — и тогда —».
Следующая глава называется «Победа». Она начинается так: «Да, — и тогда — вы, чьи холодные, как глина, головы и тепловатые сердца способны увещевать или маскировать ваши страсти, скажите мне, какой тут грех, если овладеют они человеком?»
Но падение Йорика не состоялось: «…я поднял прелестную fille de chambre за руки и вывел ее из комнаты: она стояла около меня, пока я запирал дверь и прятал ключ в карман, — и тогда, — когда победа была вполне решена; — не ранее того, я прижал свои губы к ее щеке и, взяв ее снова за руку, благополучно проводил ее до выхода из гостиницы».
В этом случае сентиментальный путешественник оказался нравственно устойчивым, но Стерн про себя говорил, что у него много парусов и мало балласта.
«Свежий ветер воодушевления» заставлял его все время наваливаться на чужой такелаж так, как наваливаются друг на друга суда в бурю.
Стерн и сам хотел крушить и, вероятно, сознательно ставил руль так, чтобы попасть в чужую воду и обить противника или мнимого союзника с пути.
В серьезном и строгом, притворяющемся скромным, уже установившемся мире Стерн назвал строгость «пройдохой».
Рядом с описанием унылого дома Шенди в книге Стерна намечается линия рассказа о какой-то Дженни. Дженни появляется в романе с точным обозначением времени и характера действия. Дженни — просто женщина.
«Не далее как неделю тому назад, считая от нынешнего дня, когда я пишу эту книгу в назидание свету, — то есть 9 марта 1759 года, — моя милая, милая Дженни, заметив, что я немножко нахмурился, когда она торговала шелк по двадцати пяти шиллингов ярд, — извинилась перед лавочником, что доставила ему столько беспокойства; и сейчас же пошла и купила себе грубой материи в ярд шириной по десяти пенсов ярд».
Кто она — Стерн не говорит.
«Я согласен, что нежное обращение моя милая, милая Дженни, — наряду с некоторыми другими разбросанными там и здесь штрихами супружеской умудренности, вполне естественно могут сбить с толку самого беспристрастного судью на свете и склонить его к такому решению».
Дженни и Тристрам не всегда дружны.
«Это и есть истинная причина, почему моя милая Дженни и я, так же как и все люди кругом нас, вечно ссоримся из-за пустяков. — Она смотрит на свою наружность — я смотрю на ее внутренние качества. — Можно ли в таком случае достигнуть согласия относительно ее достоинств?»
Как будто разногласия очень благоразумны. Но лирика и ирония опровергают и здесь буржуазное благоразумие.
«— О Тристрам! Тристрам! — воскликнула Дженни.
— О Дженни! Дженни! — отвечаю я, перейдя таким образом к главе двенадцатой».
Много нескромного сказано о Дженни.
Кто такая Дженни, мы не знаем, и, говоря с нею, Стерн заслоняется Тристрамом, про которого мы ничего не знаем, кроме того, что рождение этого мальчика было трудно.
Про Дженни и про автора мы все же знаем больше, чем про другие любовные истории.
«— Пожалуйста, милая Дженни, расскажи за меня, как я себя вел во время одного несчастья, самого угнетающего, какое могло случиться со мной — мужчиной, — гордящимся, как и подобает, своей мужской силой. —
— Этого довольно, — сказала ты, подходя ко мне вплотную, когда я стоял со своими подвязками в руке, размышляя о том, чего не произошло».
Эротика писателя ущербна.
Дело не в нескромности Стерна. Не только житейские и любовные неудачи горьки. Горько счастье, если к нему отнестись с эгоистическим вниманием.
Пушкин сказал: «Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б»[26].
Место, упоминаемое Пушкиным, находится в «Сентиментальном путешествии», в главе «Паспорт. Версаль».
Но слова Стерна были не только нескромностью: в них было горькое познание.
Пушкин ввел его в сцепление своих стихов, повторив само понятие — содрогание:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях амией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний,
Она торопит миг последних содроганий…
Стерновское остроумие обратилось в познание подлинной действительности.
Я не хочу сказать, что будто бы Пушкин находится под «влиянием» Стерна. Стерн был умным наблюдателем, который заострил нескромное наблюдение.
Для Пушкина нескромность как таковая была не нужна: он показал истинную драму противоречия жизни.
Наследник шутов, герой Стерна Йорик не строг и не скромен, его презирал за это такой холодный циник, как А. Дружинин.
Но нескромность Стерна не была формой-самоцелью.
Нескромность Стерна исторична, и не будем к ней относиться как к легкомыслию. Стерн боролся со строгостью, с пуританством Англии.
Йорик говорил, что «…самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно, обман; — это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто у них больше ума и знания, чем есть на самом деле; несмотря на все свои претензии, — она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один французский остроумец, — а именно: строгость — это уловка, изобретенная для тела, чтобы скрыть изъяны ума; это определение строгости, — говорил весьма опрометчиво Йорик, — заслуживает начертания золотыми буквами».