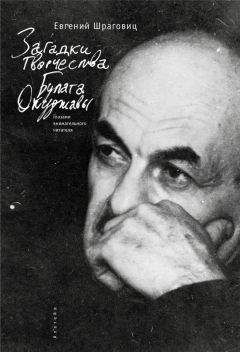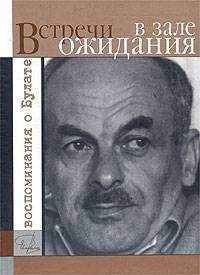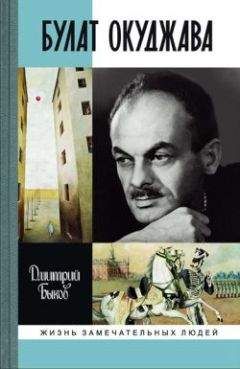Ознакомительная версия.
Согласно исследованиям психологов[229], спящий может вести «продолжительные и ясные диалоги» даже с бодрствующим собеседником, хотя не факт, что после пробуждения он их вспомнит. В полном соответствии с теорией сна, пытаясь создать связную гипотезу из поступающих данных, эмоциональная система генерирует новый вопрос в уже заданном былинно-песенном ключе. По сути, это просто расширенная первая реплика: «А как мне проехать туда? Притомился мой конь./ Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?». Ирония была совершенно не замечена «поэтом». Ответ: «На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь,/ езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда» – явная отсылка к фразеологизму «путеводный огонь». Если понимать его аллегорически, то таким «огнем» можно назвать поэтический талант; следовательно, «скептик» намекает «поэту», что его дар должен указать ему дорогу. Следующие за этим сетования «поэта» на то, что «ясный огонь не горит», отражают страх, что талант покинул его, а фраза: «Сто лет подпираю я небо ночное плечом…», с одной стороны, указывает на то, что творческий метод «поэта» давно уже в работе, а с другой – на то, что проблемы художника вечны. Кроме того, оборот «сто лет» придает ситуации масштабы, характерные для былин, как и «плечо, подпирающее небо». При этом высказывание отражает накопленный негативный опыт решения конфликта. Ответ снова пронизан иронией: «Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит,/ фонарщик-то спит, моя радость… А я ни при чем». Как мы уже отмечали, фонарщик тут – метафорическое обозначение вдохновения. И «скептик» говорит о том, что это не его вина, если талант «поэта» «спит». Мы уже говорили о параллели со «Старым пиджаком», где «скептик» выражает сомнение в том, что его полюбит Муза. Совершенно естественно, что ассоциативная и рациональная память автора «Старого пиджака» могла «вернуть» ему во сне фразу, введенную им потом в текст стихотворения. Следующие строчки: «И снова он едет один без дороги во тьму./ Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам!..» перекликаются со стихотворениями Жуковского и Пушкина[230]. В приведенных выше строках Окуджавы и следующем за ними вопросе: «Ты что потерял, моя радость?» – впервые «прорывается» нешуточное беспокойство «скептика» за судьбу «поэта». При этом они выглядят как комментарий «извне», произнесенный Окуджавой – автором стихов; в сновидении ситуация казалась ее участникам абсолютно естественной, а в последней строфе звучит вопрос, ставящий под сомнение логику событий. Реплика «скептика» в предпоследней строчке коррелирует с линией поведения рациональной личности в состоянии бодрствования. При этом тон вопроса остается ироническим, а по содержанию эта фраза напоминает приведенные выше строки из стихотворения «Музыка».
Мы уже говорили о том, что задавать осмысленные вопросы может только рационально-логическая система. А вопросы в стихотворении извлекаются из ассоциативной памяти, где они «записаны», и они обнаруживают полное непонимание спрашивающим поведения адресата. Источником предпоследнего вопроса тоже может служить ассоциативная память. Тогда и слова всадника, завершающие песню, «Ах, если б я знал это сам», эквивалентные эмоционально окрашенному, произнесенному с интонацией сожаления ответу «не знаю», могут быть получены из нее же: в ней хранятся строки из собственных текстов, стихотворение А. К. Толстого «Колокольчики мои, цветики степные» с его: «Конь несет меня лихой, – / А куда? Не знаю!»; «Песня» З. Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете». Таким образом, песня представляет собой внутренне цельное описание реального сна или стилизацию под сон, где развертываются проблемы, волновавшие Окуджаву в период ее сочинения.
В «Ночном разговоре», как и в других текстах Окуджавы со сходной тематикой, представлены «скептик» и «поэт», но «скептик», который, согласно ожиданиям читателя, представляет собой рациональное начало, в отличие от предыдущих случаев, в «Ночном разговоре» оказывается беспомощным, поскольку во сне у него нет рациональных аргументов, и он, отвечая, пользуется материалом из ассоциативной памяти, как и «поэт». Поэтому провести полноценный спор оппонентам не удается. А две последние реплики – это констатация неразрешимости конфликта.
Хотя и без полной уверенности, мы можем предполагать, что Окуджава, как профессиональный филолог и знаток поэзии, был знаком не только с источниками, приведенными выше, но и со многими другими[231].
Завершая обсуждение темы двойственности сознания в ранних песнях и стихах Окуджавы, мы хотим отметить, что характер внутренних противоречий, представленных в стихах поэта, может служить иллюстрацией того, что недавно стало известно о работе мозга, и новые знания подтверждают аутентичность описания переживаний поэта. Кроме того, с позиций нового подхода удается понять связь между несколькими произведениями, различными по образности, но объединенными темой внутреннего конфликта, что прежде не представлялось очевидным, и расшифровать, может быть, одно из самых таинственных произведений Окуджавы – песню «Ночной разговор».
Какими Окуджава видел Пушкина и Лермонтова
…лучше всех Пушкина понял не исследователь, а поэт – Булат Окуджава.
Ю. Лотман. Письмо Б. Ф. Егорову
За период с начала 60-х до 1970 года Окуджава написал несколько стихов о Пушкине и Лермонтове. Наличие достаточно сжатых временных рамок связано с «кустовым» характером его творческого процесса. Первым по хронологии в означенном временном интервале было стихотворение 1960-61 года «Берегите нас, поэтов», в котором фигурируют оба литературных классика. За промежуток времени с 1964 по 1970 год появились 4 произведения Окуджавы о Пушкине («Былое нельзя воротить…» (1964), «Александр Сергеич» (1966), «Счастливчик Пушкин» (1967), «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» (1970)) и одно – о Лермонтове, которое называется «Встреча» (1965). В том же 1965 году Окуджава и О. Арцимович работали над сценарием фильма «Частная жизнь Александра Сергеевича, или Пушкин в Одессе»; в нем уже просматривается концепция личности Пушкина, позже развернутая Окуджавой в стихотворении «Счастливчик Пушкин». А почти через четверть века упоминание о Пушкине вновь возникает в стихотворении «Приносит письма письмоносец…» (1988), а в текст «Ах если б знать заранее…» (1990) Окуджава снова включает образы и Пушкина, и Лермонтова.
Окуджава как-то сказал, что прочувствовал и полюбил поэзию Пушкина только в середине 60-х годов, а до того «не знал, не понимал, а просто участвовал в общем хоре»[232]. Именно в эти годы, видимо, сформировалось его цельное и оригинальное представление о личности классика, которое нас и интересует. Мы не включили в рассмотрение ранние стихи Окуджавы о Пушкине «Бессмертие» и «За Черной речкой», написанные в конце 50-х, потому что в них это представление не могло отразиться.
Пушкинско-лермонтовская тема в творчестве Окуджавы привлекла внимание многих исследователей. Значительная часть их (С. Бойко, В. Новиков, О. Розенблюм, А. Кулагин[233]) говорили о том, что на тональность и отношение к герою в текстах Окуджавы о Пушкине повлияло стихотворение Маяковского «Юбилейное». В. Новиков в статье «Властитель чувств» высказал мысль, что Маяковский был посредником для Окуджавы в «ситуации диалога с великими»[234]. А. Кулагин в книге «Окуджава и другие» указывал на перекличку между «Юбилейным» и стихотворением Окуджавы «Былое нельзя воротить…» и писал: «…и как знать – может быть, без “Юбилейного” не было бы и других окуджавских стихотворений 60-х годов – “Александр Сергеевич” и “Счастливчик Пушкин”, по своей тональности, разговорной манере и полемической установке на хрестоматийный образ классика вольно или невольно продолжающих пушкиниану Маяковского»[235]. Факт влияния поэзии Маяковского на эти тексты Окуджавы трудно оспаривать. Но мы постараемся указать на другие, не менее значимые контексты стихов Окуджавы о Пушкине.
И в стихах Окуджавы, и в стихах Маяковского оживает памятник (такой сюжет можно выделить и в «Каменном госте» Пушкина); и у Окуджавы, и у Маяковского присутствует попытка деканонизации образа классика. Можно отметить близость стихов Окуджавы и Маяковского на нескольких уровнях, но эти уровни более-менее поверхностны; они скорее касаются внешней стороны текстов. Окуджаву волнует не только образ Пушкина; в стихах, которые мы рассматриваем, как и во многих других текстах Окуджавы, проступает его рефлексия относительно проблемы творчества вообще. И если говорить о философии Окуджавы, то в этом плане он никак не смыкается с Маяковским.
Наша работа отличается от предшествующих тем, что в ней мы привлекли при анализе те произведения, которые как-то соотносимы с окуджавскими именно на глубинном, мировоззренческом уровне. Они написаны Георгием Ивановым и Борисом Пастернаком.
Ознакомительная версия.