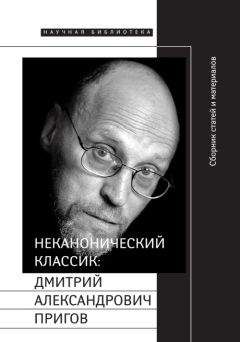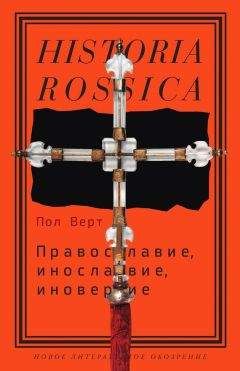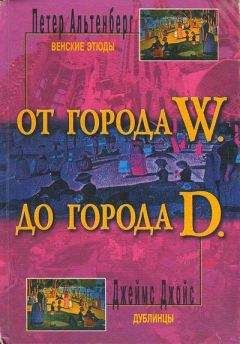Нечто подобное происходит и в ином стихотворении, в котором те же типы разыгрывают эротический миф:
Вот на девочку пожарный налетел
Дышит он огнем, глаза сверкают
Обвязал ее и не пускает
Душит средь своих горячих тел
Но Милицанер тут подскакал
С девочки пожарного сгоняет
И назад в пещеру загоняет
Не страшит его тройной оскал
И у входа у пещеры сам
На посту стоит он неотлучно
А у девочки родился сын –
Морячок лихой, Голландец Летучий[320].
Огонь (Пожарный) тут выступает как олицетворение эротической страсти. Милицанер отгоняет его от «девочки» туда, где он «прописан», в подземный хтонический мир. Рождение Морячка – это появление воды, антагониста огня. Отсюда странное для реалистического текста поведение персонажей. Пожарник налетает на девочку, а Милицанер загоняет его в пещеру.
Необычность этих текстов заключается в том, что в них риторические слои разных эпох смешиваются. Античная мифология стихий входит в советскую риторику власти и героического. Но, по мнению Пригова, каждое время выражает себя через стилистическую смесь. Поскольку советская риторика вся полна героическим, она неизбежно черпает героическое, например, в античном мифологическом эпосе. Стилистика – никогда не является «чистой», но несет в себе следы времени, которое Пригов в применении к литературе не считает континуальным. В эссе «Предуведомление к тексту “Классификация времен”» Пригов указывает, что герой не должен считаться «персонификацией времени»:
Он есть как бы условная точка в поле времени, способствующая его кристаллизации и дающая возможность вести более материальный разговор об интересующем нас предмете. Герой сознательно выбран простонародной и цельной натуры, дабы излишние усложненности этического, эстетического и духовного плана не вносили дополнительных и посторонних сложностей в и без того запутанную проблему. Из этих примеров – и это, пожалуй, основное – наглядно видно, что время является не просто континуумом, но имеет и бытийное существование, как в сумме времен, нами перечисленных, так и в их последовательности (СПКРВ, с. 79).
Герой – не воплощение времени, но именно точка, в которой время кристаллизуется таким образом, что являет свою бытийственную природу. Что это значит? В «Илиаде» есть эпизод с участием провидца Калхаса, о котором говорится:
Калхас восстал Фесторид, верховный птицегадатель.
Мудрый, ведал он все, что минуло, что есть и что будет,
И ахеян суда по морям предводил к Илиону
Даром предвиденья, свыше ему вдохновенным от Феба (I, 69–72)[321].
Калхас видит прошлое, настоящее и будущее одновременно. Хайдеггер использовал фигуру Калхаса для объяснения того, что такое Бытие. Способность видеть тотальность времени в одном предъявлении – это и есть способность видеть Бытие[322]. Бытийственность времени – это именно его способность вмещать в себя и прошлое и будущее в одном моменте настоящего. Тип Пригова – это именно фигура, в которой происходит синтез времен в неком стилистическом образе. Это ощущение бытийственности времени было характерно для Мандельштама, видевшего готику или эллинизм в современном русском стихе. Характерным образом Пригов помещает своего Милицанера (поскольку о нем идет речь) в контекст мандельштамовской поэзии, именно как фигуру, собирающую время в стилистическую конфигурацию современности:
Там, где с птенцом Катулл, со снегирем Державин
И Мандельштам с доверенным щеглом
А я с кем? – я с Милицанером милым
Пришли, осматриваемся кругом
Я тенью легкой, он же – тенью тени
А что такого? – всяк на свой манер
Там все – одно, ну два, там просто все мы птицы
И я, и он, и Милиционер[323].
Катулл, Державин, Мандельштам и Пригов принадлежат разным временам, бытийственность которых сходится в точке, определяющейся фигурой птицы. Милицанер имеет полное право на существование в одном ряду со снегирем или щеглом в силу своей прямой причастности стихии воздуха и неба. Милицанер – это прямой эквивалент державинского снегиря, но принадлежащий стилистике эпохи позднего социализма. Принадлежность Милицанера советской риторике еще не выявляет характера эпохи во всей ее «материальности». То, что Милицанер выполняет в советскую эпоху роль мифологической птицы классической поэзии, говорит о времени больше, чем простой стилевой тип.
4. ТЕКСТ ПАМЯТИВ начале 2000‐х годов Пригов публикует несколько книг прозы, в которых принципы поэтики, сформулированные еще в 1970‐е годы, получают подтверждение и развитие. Прежде всего это «Живите в Москве»; жанр этого произведения определяется автором как «рукопись на правах романа», не роман, а псевдомемуары, воспоминания о жизни в Москве сталинского и послесталинского времени. Мемуары – это, конечно, лучший способ соотнесения с бытийственностью времени, которое у Пригова имеет подчеркнуто неонтологический характер. Время в книге никогда не дается как субъективное время рассказчика, но всегда как некое безличное и синтетическое время, строящееся из множества временных напластований.
Пригов оперирует не с индивидуальной памятью, хотя у «мемуаров» и есть «автор», а с тем, что Морис Хальбвакс когда‐то назвал «коллективной памятью». Хальбвакс считал, что коллективная память – это общий фонд воспоминаний, который необходим для поддержания единства некоего сообщества. Так, дружеская компания во многом существует благодаря этому общему фонду воспоминаний, которые до такой степени утрачивают связь с событием, что могут разделяться и тем, кто непосредственно в этом событии не участвовал. Распад группы приводит к исчезновению воспоминаний, которые не с кем делить и которые отныне не имеют смысла. Хальбвакс утверждал, например, что мы не имеем воспоминаний раннего детства потому, что в этот период мы не включены в сообщество, способное служить опорой для этих воспоминаний:
…мы вспоминаем только при условии, что мы помещаем себя в точку зрения одной или нескольких групп или в один или множество потоков коллективной мысли[324].
И действительно, в «Живите в Москве» исчезновение сообществ часто описывается в формах некой коллективной амнезии, событие просто выпадает из прошлого:
Но самый же московский из московских, в смысле столичных, головных, определяющих, основополагающих, самый грандиозный проект того времени почему‐то не помнят. Бывает такое. Я уже объяснял. Помнят, вспоминают неожиданно что‐то из самого ненужного. Уже во взрослом возрасте вспоминают, например, что‐то из глупого, бессмысленного, не нужного никому детства. А необходимое и насущное из ближайшей взрослой жизни не помнят. Ну просто абсолютно, до полнейшей пустоты, оно вываливается из памяти (ЖВМ, с. 179–180).
Воспоминания, которые мемуарист фиксирует на бумаге, имеют неопределенный характер, потому что автор не может провести внятное различие между своими и чужими воспоминаниями, а следовательно – между воспоминаниями и вымыслом, правдой и ложью, прошлым и настоящим:
Я молод. Я безумно молод. Я все еще безумно молод. Ну, молод достаточно, что, вспоминая нечто, никак не могу представить, что это вот есть из прошлого. Вернее, откуда‐то. Но ведь не из будущего же. Представляется что‐то из какого‐то чужого. Вернее: а не из чужого ли? Как иногда нечто чужое, рассказанное, особенно во вторичном уже пересказе, как бы становится собственным. Хотя обычно остается, конечно, некоторая его пришлость, чуждость, что ли. Но обрастая всяческими детальками, добавками, зачастую становится более близким, чем чистое свое, редко выковыриваемое на свет. Оно свое в чистой идее. Оно почти не поддается овладению (ЖВМ, с. 91).
Но и сам процесс вспоминания чрезвычайно прихотлив. Тут, как у Фрейда, ложные воспоминания замещают истинные, один слой прошлого наползает на другой, и все это происходит помимо воли автора и вне его контроля:
Конечно, самым сложным является не само воспоминание, хотя оно тоже сложновато. Трудно, вспоминая нечто, все время держать в уме то, что вспоминалось в предыдущий раз, дабы одно другому не противоречило. Ну, не то чтобы не противоречило. Скорее – не побивало бы. Не опорочивало бы (ЖВМ, с. 52).
Или в ином месте, когда Пригов пишет о Милицанере и выходе его памяти из конкретной реальности в трансцендентальную вертикаль:
В отличие от предыдущих глав-описаний, мне не приходится напрягать память, вступать в сложные отношения со всякого рода искажениями, желаниями искажений, искажениями желаний, смутой и насильственностью как бы насильственно выпрямляемых воспоминаний. Или воспоминаний, навязываемых страхом искажений, провалов, реальной невозможностью избежать ни первого, ни второго, ни третьего, ни возможных пятого, шестого, десятого, двадцатого, двадцать первого, наконец. Здесь все ясно, независимо от мелких или крупных жизненных пертурбаций. Здесь все парит в нетленности. Здесь нет прошлого, в субстанциональном смысле (ЖВМ, с. 124).