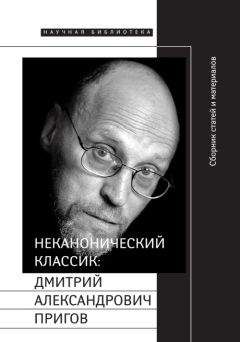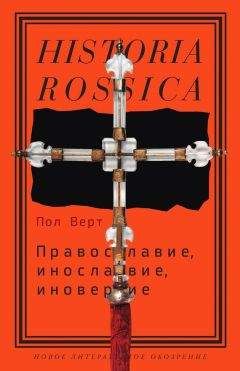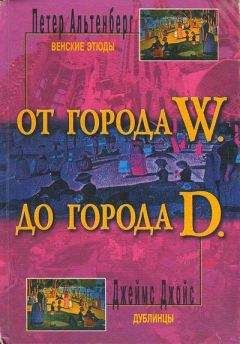У Пригова есть текст под названием «Трансценденция», где катастрофы оказываются в прямой связи с буквенной индексацией:
Меня настигает известие о странной катастрофе где‐то вдали на нашей планете, я неопределенно хмыкаю и определяю себе потерю чувственности, обозначая ее индексом Т (ИИУ, с. 86).
«Т» в данном случае – это первая буква слова «трансценденция». Катастрофа тут – потеря зримого, воображаемого, то есть очищение памяти от мнемонического образа, и одновременно это выход за пределы чувственного, который фиксируется в буквенной индексации. Это исчезновение зримого в трансцендентальном описывается в «Живите в Москве» в эпизоде учебы в «Строгановском училище», которое действительно кончал Пригов. Здесь фигурирует «некий, например, Яковлев», который постоянно смотрит перед собой и созерцает «разнообразные чистые умозрительные формы» (ЖВМ, с. 269). Сам рассказчик пишет о себе, что он «изобретал всевозможные проверочные перпендикулярные, поперечные, косые и все мыслимые умопостигаемые сечения живых телесных объемов для проверки и наполнения напряжения. Да, в этом можно было полностью пропасть. И я пропадал» (ЖВМ, с. 269). Скульптура, пластическая масса, глина тут прямо исчезают в умозрительности форм и ведут к исчезновению самого скульптора.
Трансцендентальность буквенной индексации – тема множества текстов, объединенных темой азбуки. Пригов сочинил немало предуведомлений к различным азбукам. Азбуки эти почти без исключения – иронические фантазии на тему исчезновения и разметки пустоты, – отсюда азбуки «исчезновения», «похоронная» и т. д. Буквы тут называются «индексами поля», «зонами каждого элемента системы алфавита» (СПКРВ, с. 141). Буквы часто понимаются именно как точки, генерируемые неопределенностью пространств чистой потенциальности:
От буквы до буквы рукой подать, а какие пространства неподъемные разделяют их, какой тайной и молчанием они переложены, что лишь искрой угадывания смутного и невыразимого прожигаемы (СПКРВ, с. 164).
В тексте «Метакомпьютерные экстремы» Пригов берет за модель пространства клавиатуру компьютера, на которой буквы понимаются им как неизменная разметка этого пространства. Отсюда генерация текста описывается как смена позиций:
Заменяем каждую позицию следующей ей позицией алфавита ‹…› Каждую четвертую – второй позицией…[363] – и т. д.
Это обращение к клавиатуре само себе показательно. Когда‐то Мишель Фуко использовал набор букв на клавиатуре французской пишущей машинки – AZERT для иллюстрации того, чем является высказывание (l’énoncé):
…клавиатура пишущей машинки не является высказыванием, но сам ряд букв A, Z, Е, R, Т, приведенный в учебнике машинописи, является высказыванием алфавитного порядка, принятого для французских пишущих машинок. Таким образом, перед нами несколько негативных следствий: для формирования высказывания не требуется правильной лингвистической конструкции (оно может быть образовано из ряда с минимальной вероятностью)…[364]
Это положение очень существенно. Традиционная лингвистика связывает возможность высказывания с наличием языкового кода, то есть некоего идеального образования, без которого невозможна речь. То же самое можно сказать и о порядке знаков. В знаках мы привыкли видеть комбинацию материальной (означающее) и идеальной (означаемое) сторон в их единстве. Но в высказывании типа AZERT этого различия между идеальным и материальным нет. Комбинация этих букв не отсылает ни к какому понятию, к идеальной стороне знака, но отсылает к самой себе. Делёз так описывает «высказывание» в понимании Фуко:
В сфере высказываний не существует ни возможного, ни виртуального; тут все реально, а вся реальность здесь явлена: в счет идет лишь то, что было сформулировано в таком‐то месте, в такой‐то момент, с такими‐то лакунами и пробелами[365].
Пригов вполне сознательно удаляет из текста «метафизическую» двойственность языка. Высказывание у него может разворачиваться без всякой связи со «смыслом», идеальным содержанием, репрезентацией:
Берем, например:
Актюбинск
Переворачивая вокруг оси вращения, идущей от нас через Ю, а затем вокруг оси вращения, идущей параллельно позиции взгляда через центр всех букв, и получаем:
Кснибютка
Затем заводим нечетные позиции за спину четным и получаем:
СИЮК
(А принимает нулевое значение)[366] – и т. д.
Именно в такой системе места букв разметка ими пространства приобретает совершенно особое значение.
В таких высказываниях исчезает различие между идеальным и материальным. Еще раз напомню, что когда‐то Соссюр утверждал, что
язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную[367].
В высказывании типа AZERT никакой лицевой стороны нет, вернее, не существует двух сторон знака. Знак оказывается расположенным на поверхности, никак не соотнесенной с оборотной стороной. Делёз вслед за стоиками предложил считать смысл возникающим из некоей разметки поверхности, не имеющей оборотной стороны. Такая поверхность зато может изгибаться и сопрягать в складках нанесенные на нее элементы различных серий. Смысл возникает на поверхности в виде неких событий, которые не отражают внутренней сущности тел, лежащих под поверхностью. Эти события Делёз называл «бестелесными сущностями». Пример такой сущности он взял из уже упомянутой мной книги Эмиля Брейе о логике стоиков:
Когда скальпель рассекает плоть, одно тело сообщает другому не новое свойство, а новый атрибут – «быть порезанным». Этот атрибут не означает какого‐либо реального качества… наоборот, он всегда выражен глаголом, подразумевающим не бытие, а способ бытия. ‹…› Такой способ бытия находится где‐то на грани, на поверхности того бытия, чья природа не способна к изменению. Фактически этот способ не является чем‐то активным или пассивным, ибо пассивность предполагала бы некую телесную природу, подвергающуюся воздействию. Это чистый и простой результат, или эффект, которому нельзя придать какой‐либо статус среди того, что обладает бытием…[368]
Пригов перенимает у стоиков и Делёза «порез» на поверхности как знак симулятивности:
…вроде бы вдоль всего тела сверху донизу загорелись по коже какие‐то порезы, насеченные елочкой. Они не столько болели, сколько зудели, покрывая тело как бы отдельной, обнимающей его, вернее, обрисовывающей на минимальном отстоянии горящей пленкой (РИД, с. 42).
Боль бы отсылала к внутреннему состоянию тела, а зуд – это чистая форма самообнаружения кожи, пленки.
Возникающие таким образом смысловые образования Делёз называл симулякрами, чтобы отличить их от платоновских копий. Копия у Платона соотносится с идеей и через нее получает идентичность. Ее основание – сходство (с идеей). Симулякр не соотнесен ни с какой идеей, он, как поверхностное событие, порез, нисколько не отражает и внутренней природы тела, скрытого под поверхностью. Симулякром можно, например, считать аполлоническую грезу у Ницше, которая маскирует дионисийский хаос за ней. Хаос никак не отражается в этой грезе, она его не репрезентирует, не имеет с ним сходства. Греза – чистый самодостаточный симулякр, маска. Поверхности у Пригова, как у стоиков, совершенно отделены от внутреннего, никак его не репрезентируют:
Но, заходя с другой стороны, вы ничего не обнаруживали, кроме обычной, гладко натянутой кожи, никак не реагирующей на прямо‐таки трагические, катастрофические события, происходящие на оборотной стороне того же самого тела (ЖВМ, с. 205).
Этот образ особенно важен, он указывает на то, что катастрофа, хаос вовсе не противоречат явлению симулякров, но, наоборот, их порождают, как дионисийский хаос у Ницше порождал аполлоническую видимость – Schein.
Симулякры – центральная тема приговского «Рената и Дракона», и здесь симулякры являются в полном наборе своих существенных черт. Они, например, связываются с чистой буквенной разметкой пространства по типу букв на клавиатуре. В какой‐то момент Ренат порождает симулякр, который плывет в воздухе,
улыбаясь и вынимая откуда‐то и отпуская от себя гигантские дымчатые и исчезающие в густом, влажном и перегретом индийском воздухе, прозрачно-поблескивающие, словно мыльные пузыри, внутри которых различались буквы русского алфавита – К, Ф, М, Ф, З. И затем почему‐то два раза И. Потом Т и Е. Потом выплыла буква М. Посомневавшись, ее идентифицировали как букву латинского алфавита (РИД, с. 59–60).
Буква идентифицируется не через включенность в имеющее смысл слово, но произвольно, так как нет правила, которое бы приписывало ее тому или иному контексту и даже алфавиту.