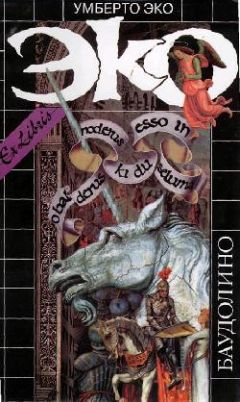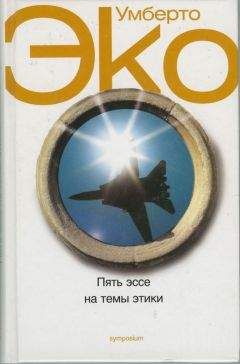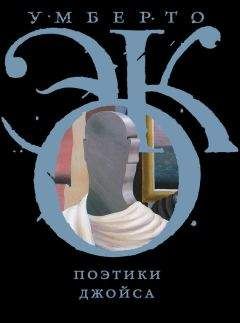Ознакомительная версия.
Тем самым мы подходим к сути проблемы: невозможно оценивать или описывать ситуацию, используя язык, который не имеет с ней ничего общего, потому что язык отражает определенную совокупность отношений и определяет систему последующих импликаций. Если какой — нибудь французский философский текст написан, предположим, в позитивистском ключе, я не могу перевести слово «дух» (esprit) нашим «spirito», потому что в итальянской культурной ситуации термин «spirito» настолько слился с идеалистической философией, что в результате такого перевода смысл текста неизбежно исказился бы.
Сказанное по поводу отдельных слов имеет силу и по отношению к целым повествовательным структурам: если, начиная рассказ, я описываю природную среду, в которой разворачивается действие (например, озеро Комо), а затем внешний вид и характеры главных героев, это уже означает, что я верю в существование определенной упорядоченности фактов, верю в объективность определенной природной среды, в которой, как на некоем фоне, движутся мои персонажи, в определимость характерологических данных и их описание согласно психологии и этике, наконец верю в существование точных причинных связей, которые позволяют мне из среды и характера, а быть может, и из ряда легко определяемых сопутствующих событий выводить череду событий последующих, которую надо описать как однозначное течение фактов. Таким образом, принятие данной повествовательной структуры предполагает определенную веру в упорядоченность мира, отраженную в используемом мною языке, в тех приемах, с помощью которых я придаю ему упорядоченную форму, а также в самих временных отношениях, которые в нем выражаются11.
В тот момент, когда художник замечает, что коммуникативная система чужда той исторической ситуации, о которой он хочет говорить, он должен решить, что сможет выразить эту ситуацию не путем приведения примеров, иллюстрирующих выбранную историческую тему, а только путем усвоения, создания тех формальных структур, которые становятся моделью этой ситуации.
Подлинным содержанием произведения становится способ восприятия этого мира и его оценки, ставший способом формотворчества, и на этом уровне будет вестись разговор об отношениях между искусством и миром.
Искусство познает мир посредством своих формообразующих структур (которые, таким образом, являются не формалистическим моментом, а подлинным содержанием): литература организует слова, обозначающие те или иные аспекты мира, но литературное произведение обозначает собственно мир благодаря способу расположения этих слов, даже если они, взятые в отдельности, обозначают вещи, лишенные смысла, или события и отношения между событиями, которые как будто не имеют никакого отношения к миру12.
5. Приняв эти предпосылки, можно начать разговор о той ситуации, в которой находится литература, желающая видеть индустриальное общество как оно есть, стремящаяся выразить эту реальность, ее возможности и трудности. Если поэт, догадываясь о том отчуждении, которое переживает человек в технологическом обществе, пытается описать его и показывает эту ситуацию, обращаясь к «обычному» («коммуникативному», всем понятному) языку, с помощью которого раскрывает свою «тему» (предположим, мир рабочего человека), он грешит из великодушия, но при всех своих благих начинаниях совершает и грех мистификации. Попытаемся проанализировать коммуникативную ситуацию этого воображаемого поэта, в которой наглядно и весьма ярко заявят о себе характерные недостатки и затруднения.
Итак, он считает, что определил конкретную ситуацию, в которой находятся его ближние и, вероятно, отчасти в этом преуспел; кроме того, он считает, что может описать и оценить ее с помощью языка, который не связан с этой ситуацией. Уже здесь он совершает двойную ошибку: в той мере, в какой этот язык позволяет схватить ситуацию, он сам отражает ее и, следовательно, захвачен ее кризисом. Если же этот язык чужд данной ситуации, он не может ее постичь.
Посмотрим, как ведет себя специалист по описанию ситуаций, то есть социолог или, еще лучше, антрополог.
Если он, пытаясь описать и определить нравственные отношения, существующие в первобытном сообществе, делает это с помощью этических категорий западного общества, он не продвинется ни на шаг в понимании ситуации и ее разъяснении другим. Если какой — либо обряд он определяет как «варварский» (что сделал бы путешественник прошлых веков), это никак не поможет нам понять, согласно какой культурной модели этот обряд обретает свое право на существование. Но если без каких — либо оговорок он принимает понятие «культурной модели) (если решает рассматривать описываемое им общество как некий абсолют, несоотносимый другими социальными ситуациями), тогда он должен описывать этот обряд в тех категориях, каких его описывают сами туземцы, и в таком случае ему не удастся его объяснить. Следователь но, он должен признать, что наши категории неадекватны, и тем не менее должен через ря опосредствований перевести категории, используемые туземцами, в категории, аналогичны нашим, постоянно подчеркивая, что речь идет о пересказе, а не о буквальном переводе.
Таким образом, его описание постоянно сопровождается созданием некоего метаязыка используя который, он постоянно рискует впасть в одну из двух ошибок: или оценивать ситуацию с точки зрения западного человека, или полностью раствориться в туземном менталитете совершенно избавить себя от объяснений. Следовательно, с одной стороны, перед нам аристократическая позиция путешественника былых времен, который соприкасается «дикарями», не понимая их и в результате пытаясь «окультурить» их самым худшим образом, т есть колонизовать, а с другой, — релятивистский скепсис, характерный для одного из направлений в антропологии, ныне пересматривающего свои методы используя которые, оно (исходя из того, что любая культурная модель представляет собой некую величину, которая сама себя объясняет и оправдывает) дает ряд описаний по «медальонному» принципу, основываясь на которых, человек, осуществляющий конкретные связи, никогда н сможет разрешить проблему «культурных контактов». Естественно, что золотой серединь достигает тот чуткий антрополог, который, разрабатывая свой собственный описательный язык постоянно чувствует диалектику описываемой ситуации и одновременно представляет орудия необходимые для понимания и признания этой ситуации, и пытается позволить нам самим о не рассуждать.
А теперь вернемся к нашей «модели» поэта. В тот момент, когда он решает действовать не ка антрополог и социолог, но как поэт, он отказывается разрабатывать специальный язык необходимый для данной ситуации, и пытается сделать «поэтическим» разговор о ситуации в индустриальном обществе, сообразуясь с традицией поэтического дискурса. Такой традицие могут, например, стать сумрачные внутренние переживания, исповедь, идущая от сердца, какие — то «воспоминания»: в лучшем случае его дискурс сумеет выразить только его субъективны переживания по поводу той драматической ситуации, которая ускользает от него. Однак< ситуация ускользает постольку, поскольку его язык связан с традицией внутренней исповеди, таким образом мешает ему понять всю совокупность конкретных и объективных отношений; тем не менее, в действительности его язык тоже берет начало в этой ситуации, это язык ситуации которая пыталась уйти от своих проблем, побуждая укрыться во внутренней исповеди, в обращении к памяти переводя в область внутреннего изменения установку на изменение вовне.
А теперь предположим, что какой — нибудь романист пытается описать какую — либо ситуацию прибегая к языку, внешне связанному с ней: специальная терминология, политические выражения жаргон, распространенный в той среде, где разворачивается та ситуация, которую надо описать Если бы он был антропологом, он начал бы с перечисления этих средств коммуникации, чтобы только потом определить, каким образом они соотносятся между собой и по каким правилам используют. Но если он захочет представить эту ситуацию, выраженную с помощью характерног для нее языка, в виде некоего повествования, тогда ему придется связать эти языковые элементы согласно определенному порядку, повествовательной последовательности, которая представляе собой последовательность, характерную для традиционной прозы. Выбрав определенный язык являющийся, как он считает, характерным для ситуации, в которой человеческие отношени искажаются, претерпевают кризис, извращаются, он выстраивает этот язык, подчиняясь условнос тям повествования, в соответствии с той упорядоченностью, которая тотчас создает видимост связи там, где налицо разрывы, и для того, чтобы создать видимость беспорядка и смятения, о создает впечатление порядка. Этот порядок, конечно же, кажущийся, порядок повествовательны: структур, которые выражали упорядоченный универсум, этот порядок утверждает форм суждения, высказанного языком, чуждым описываемой ситуации. Кажется, что рассказчи стремится понять ситуацию, в которой царствует отчуждение, но он не отчуждается в нее, а напротив, выходит из не посредством использования тех повествовательных структур, которые, как он считает, дают ем возможность выйти за пределы предмета описания13. По существу, структура традиционной прозы — это «тональная» структура детектива: существует некий устоявшийся порядок, ряд образцовы этических отношений, некая сила, Закон, управляющий ими согласно разуму; затем совершаетс нечто, нарушающее этот порядок — преступление. Далее начинается расследование, проводимо умом (детективом), не запятнанным связью с беспорядком, из которого и родилось преступление а вдохновляющимся уже упомянутой образцовой упорядоченностью. Анализируя поведени подозреваемых, детектив отделяет тех, кто руководствуется принятой нормой, от тех, кто от нее отходит; затем он отделяет кажущиеся отклонения от настоящих, то есть устраняет ложные улики которые нужны только для того, чтобы держать в напряжении читателя; после этого он определяе подлинные причины, которые, согласно законам порядка (законам психологии и законам cu prodest) и породили преступное деяние; затем он выявляет, кто в силу своего характера и ситуацш был подвержен воздействию таких причин, и разоблачает преступника, которого наказывают Порядок снова торжествует.
Ознакомительная версия.