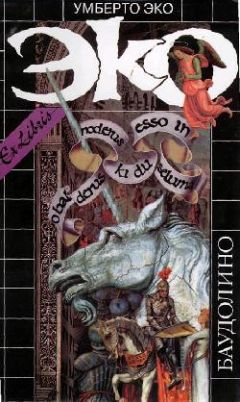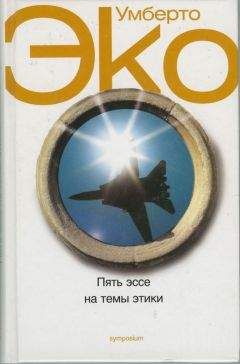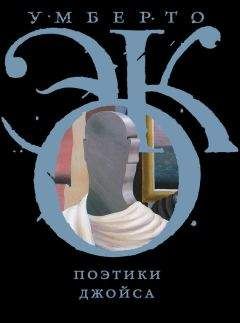Ознакомительная версия.
Согласно Пуссеру3, поэтика «открытого» произведения тяготеет к тому, чтобы подталкивать его истолкователя к «осознанно свободным действиям», делать его активным средоточием совокупности неисчислимых связей, среди которых он воссоздает свою собственную форму, не ощущая давления той необходимости, которая навязывает ему вполне определенные способы организации воспринимаемого произведения; однако можно было бы возразить (ссылаясь на тот более широкий смысл термина «открытость», о котором мы мимоходом упомянули), что любое произведение искусства, даже если оно и не оказывается материально незавершенным, требует свободного и творческого ответа на него, по крайней мере, потому, что его нельзя по — настоящему понять, если истолкователь не открывает его заново в акте творческого единомыслия с самим автором. Другое дело, что такое наблюдение стало возможным лишь тогда, когда современная эстетика вступила в пору вполне зрелого, критического осознания того, что представляет собой отношение интерпретации, и нет сомнения в том, что несколько веков назад художник был весьма далек от того, чтобы критически осознавать эту реальность; теперь же, напротив, такое осознание в первую очередь присутствует в самом художнике, который, вместо того чтобы мириться с «открытостью» произведения как с чем — то неизбежно данным, сам выбирает ее в качестве творческой программы и представляет свое произведение так, чтобы оно способствовало появлению максимально возможной открытости.
Нельзя сказать, чтобы от древних совершенно ускользнуло значение субъективного момента (того факта, что восприятие произведения предполагает отношение взаимодействия между субъектом, который «видит», и произведением как объективной данностью), особенно когда речь заходила об изобразительных искусствах. Платон в своем Софисте отмечает, например, что
художники задают пропорции не в соответствии с объективным положением вещей, а в соотношении с тем углом зрения, под которым наблюдатель воспринимает образы; Витрувий проводит различие между симметрией и эвритмией, понимая последнюю как согласование объективных пропорций с субъективными требованиями созерцания; развитие теоретического представления о перспективе и ее практическое осмысление свидетельствуют об углублении понятия о том, какую роль играет субъективность в истолковании произведения. Однако такие взгляды в равной мере заставляли действовать против открытости в пользу замкнутого характера произведения: различные перспективные ухищрения представляли собой не что иное, как уступку, которой требовало положение зрителя в пространстве, и смысл которой был в том, чтобы он увидел изображение единственно возможным и правильным образом, тем самым, к которому автор (прибегая к визуальным трюкам) пытался его подвести.
Приведем другой пример. В средние века получает развитие теория аллегоризма, предполагающая возможность прочитывать Священное Писание (а затем поэзию и изобразительные искусства) не только в их буквальном смысле, но и в трех других: аллегорическом, моральном и мистическом (анагогическом). Эта теория нам знакома по творчеству Данте, но своими корнями она уходит в Послания св. Павла (yidemus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem) («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» (1 Кор. 13, 12) и получает развитие в трудах св. Иеронима, Августина, Беды, Скота Эриугены, Гуго и Ришара Сен — Викторских, Алана Лильского, Бонавенту — ры, Фомы и других, становясь средоточием средневековой поэтики. Произведение, понятое таким образом, несомненно, наделено некоторой «открытостью»; читатель знает, что каждая фраза текста, каждый образ открыты множеству значений, которые он должен выявить; в соответствии со своим расположением духа он подберет ключ к чтению, который покажется ему наиболее назидательным, и воспримет произведение в желанном для него смысле (вновь определенным образом вдыхая в него жизнь и видя его не таким, каким оно могло предстать перед ним в предыдущем чтении). Однако в этом случае «открытость» вовсе не означает «неопределенности» сообщения, «бесконечных» возможностей формы, свободы восприятия; налицо только перечень строго предопределенных и обусловленных вариантов, служащих тому, чтобы толкование читателя никогда не ускользало от авторского контроля. Вот как говорит Данте в своем тринадцатом Письме: «Подобный способ выражения, дабы он стал ясен, можно проследить в следующих словах: In exitu Israel de Egypto, domus Jacob de populo barbaro, facta est Judea sanctificatio ejus, Israel potestas ejus («Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его» (лат.). (Пс. 113, 1–2). Таким образом, если мы прочтем буквально, дословно, мы увидим, что речь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея; в аллегорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Христом; моральный смысл открывает переход души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию; анагогический — переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы» (Данте, А. Письмо XIII // Малые произведения. М., 1968. С. 387. Пер. И. Голенищева — Кутузова и Е. Солоновича). Ясно, что в данном случае не существует каких — либо иных способов прочтения текста: в свете сказанного о четырех уровнях восприятия истолкователь может руководствоваться каким — либо одним смыслом, предпочитая его другому, но всегда в соответствии с правилами необходимой и предустановленной однозначности. Значение аллегорических образов и символов, которые человек средневековья встречал, читая текст, определялось энциклопедиями, бестиариями и лапидариями его эпохи; символика носила объективный и определяющий характер4. В основе этой поэтики однозначного и необходимого лежало представление об упорядоченном космосе, об иерархии сущностей и законов, которые поэтический дискурс может прояснять на различных уровнях, но которые каждый должен понимать только единственно возможным образом как утвержденные творящим логосом (logos). Порядок художественного произведения — это порядок имперского и теократического общества, а правила его прочтения — это правила авторитарного правления, которые направляют человека в каждом его действии, определяя цели и наделяя средствами для их достижения.
Дело не в том, что четыре варианта аллегорического дискурса в количественном отношении уступают множеству развязок, предполагаемых современным «открытым» произведением: мы постараемся показать, что в основе этих различных видов опыта лежит различное видение мира.
Не задерживаясь на этом и перемещаясь в другую историческую эпоху, мы обнаруживаем явный образец «открытости» (в современном значении этого термина) в барочной «открытой форме». Здесь действительно отрицается статическая и однозначная завершенность классической ренессансной формы, завершенность пространства, организованного вокруг центральной оси и ограниченного симметричными линиями и замкнутыми углами, тяготеющими к центру, чтобы таким образом внушить не столько идею движения, сколько идею «сущностной» вечности. Барочная же форма, напротив, динамична, тяготеет к неопределенности результата (игрой наполненности и пустоты, света и тени, изогнутыми линиями, фрагментарностью, углами самого разного наклона) и наводит на мысль о постепенном расширении пространства; стремление к движению и иллюзионистским трюкам приводит к тому, что пластические массы никогда не дают возможности выбрать какую — то одну самую выигрышную, фронтальную, определенную точку зрения, но заставляют наблюдателя постоянно перемещаться, чтобы видеть, как произведение непрестанно меняет обличье, словно находясь в непрерывном изменении. Если барочную духовность можно рассматривать как первое отчетливое проявление современной культуры и современного мировосприятия, то это происходит потому, что здесь впервые человек расстается с привычной каноничностью (залогом которой является упорядоченность космоса и непреложность сущностей) и, как в искусстве, так и в науке, оказывается лицом к лицу с миром, который находится в движении и требует от него изобретательности. Несмотря на свою внешнюю педантичность поэтика чудесного, остроумного, метафорического в глубине тяготеет к тому, чтобы эта изобретательность стала долгом для нового человека, который видит в художественном произведении не какой — то объект, основанный на очевидных отношениях и призванный к тому, чтобы наслаждаться им как проявлением красоты, а тайну, которую надо исследовать, задачу, которую надо разрешить, стимул, способствующий живости воображения5. К таким выводам приходит современная критика, а сегодняшняя эстетика может придать им вид определенных законов, но было бы опрометчиво усматривать в барочной поэтике сознательное теоретизирование по поводу «открытого» произведения.
Ознакомительная версия.