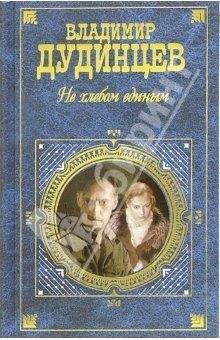С тем, оставив мир человечий, приподняться над которым стоило ему большого отвращения, Астафьев пробует взмыть над миром природным.
…Благо, самолётик, на котором летают в Чуш, не забирается слишком высоко, и внизу, на глади Енисея, видны «просверки серебра и золота», открывающие чуткому уму картину царственной природы.
На бережку, однако, торчит всё тот же Дамка, шут, пустобрёх и ёрник. Орёт проплывающим бортам:
– Э-э, громадяне-товарышшы! К вам обращаюсь я, друзья мои! Продаю, чуть не задаром отдаю!
И показывает такую рыбину, что со второй его фразы (свидетельствующей, что не чужд Дамка реалий отечественной истории), вы упираетесь во фразу третью и всматриваетесь в то, что же отдаёт «чуть не задаром» продувной прохвост.
«Стерлядь была живая, изгибалась, выбрасывала круглые хваткие губы, топорщилась жёсткими плавниками, ровно бы желая улететь».
Так это ж Царь-рыба! – ахаете вы. Главная героиня проглянула, наконец! Ассистка горизонтального енисейского пейзажа обретает смысл.
Дальше ждёшь золота.
У Золотой Карги
А Карга откуда?
Да название места, и только. Однако мы уже убеждались, что при всей «бесхитростности» астафьевской прозы, по внутренней ассоциативной оснастке она насыщена обертонами, воздействующими на читательское подсознание.
«Старую каргу» (в обычном нынешнем словоупотреблении) можно сразу оставить в покое. «Ворону» тюркскую (от которой эта старуха происходит) – тоже. Куда интереснее другая птичка: «золотой щур» (он тоже «карга»). Ещё лучше – топь в лесу (уже не от тюркского «карья», а от финского «кааркема»). Или – поближе к астафьевским местам – кривое дерево. Донная коряга. Риф. А ещё – пешая дорога по берегу озера (имеется в виду Байкал). И, наконец, – железная скоба с острыми концами, забиваемая в разбежку, чтобы брёвна не хлябали туда-сюда.
Так скрепится ли каким-никаким железом та дурью траченная пёстрая толпа, которую с сокрушением сердца наблюдал Астафьев в посёлке Чуш?
Обернётся ли на добро и пользу та каменная прочность, которую нащупал он в первом же своём очерке и которая оборачивалась бычьим упрямством и невменяемой фанаберией?
С ответом на этот вопрос у Золотой Карги появляется Командор. Ищет, с кем помериться силой.
Обессиленная Природа больным лосем уползает в заросли. Дикая артель, схватив топоры и ломы, подкрадывается: добить.
Над дикой артелью возвышаются гиганты. Один, как можно догадаться, Командор. Браконьер. Другой – рыбнадзор. Стальные мужики. Чёрным блеском отчёркнута в них сибирская стать. Один – с чеченской кровью, яростный джигит. Другой – цыганистый: лешачьи глазищи в туго налитых мешках глазниц.
А пока эти крутые мужики состязаются на глади Енисея, людишки помельче бегут из суровой Сибири – в тепло; «к морю Чёрному, к морю Азовскому, в Крым, в Молдавию». Астафьев перечисляет эти точки не без снисходительной усмешки, он не ведает, что через два десятилетия, при развале Советского Союза, эти райские адреса отвалят за госграницу – тем интереснее интуитивное попадание в будущие болевые точки…
Ещё успеет Астафьев при Советской власти напороться на грузин и евреев (за «Ловлю пескарей в Грузии» и за «еврейчат» в «Печальном детективе»). Но уже за пределами «Царь-рыбы». А тут – пробуют силу сибиряки енисейского разлива: «чечен» и «цыган». Кто кого?
Плохо кончается эта сшибка. А чтобы больнее вышло, загодя нахваливает Астафьев дочь одного из них, красавицу, у которой от отца – чернь лихих бровей, от матери – бель тела и вальяжность походки…
Красавицу сбивает насмерть заезжий шофёр, пьянь перекатная: нажрался бормотухи, уснул за рулём, выехал на тротуар.
Командора горе скрутило к земле: пропала каменная крутость, сломался металл. Убийца, пропойный забулдыга, отмотает срок и выйдет дальше пакостничать, а всё, что гремело-грохотало, – в расход!
Не всё?
Рыбак Грохотало
– ещё один в «Царь-рыбе» богатырь, свидетельствующий, что неслучайно у Астафьева бликующее сопоставление русской сибирской породы с присадками и вкраплениями инородцев, ибо Грохотало этот – украинец.
Точнее: «недобитый бандеровец»…
Тут надо учесть, во-первых, что отношение Астафьева к украинцам заложено ещё с войны, на которой воевал он рядом с ними плечо к плечу и научился чувствовать их душевный настрой, и, во-вторых, – что пишет Астафьев фигуру сибирского «бандеровца» в 70-е годы, когда никому и в голову не приходит то, во что превратятся русско-украинские отношения треть века спустя.
Теперь же, треть века спустя, когда бандеровцы в самостийной Украине не то что реабилитированы, а возведены чуть не в ранг национальных героев, – нужна от читателя особенная чуткость и точность в понимании того, что именно вкладывает Астафьев в свой украинский эпизод… и вообще в «национальный вопрос».
Учтём: в бандеровцы рыбак Грохотало угодил случайно, в их действиях участвовал по принуждению. Приговорённый Советской властью к многолетнему заключению, Советской властью досрочно выпущен, в Сибири остался по своей воле, «осибирячился». А самое важное! – иногда в горькую минуту, не исключено, что в подпитии, рыбак Грохотало повторяет, «уронив большое лицо на студенисто вывалившуюся в разрез рубахи грудь: – Маты… маты…»
Пронзительная эта нота вплетается в общую «песнь судьбы», объединяющую «всех нас». Тут и гордость за всесибирскую солидарность (за то, что «малоросс осибирячился»), и сочувствие его боли (которую не избыть никогда), и – чисто русское («нелогичное») сострадание ему в горьком нашем побратимстве.
Так вот, чтобы закончить с «национальным вопросом». Никакой великорусской державности и никакой неприязни к «инородцам» в душевном составе Астафьева сроду не было (и нет в его текстах). А была (и есть в текстах) чисто русская широкая бесшабашность и неаккуратность в прикосновении к этим саднящим точкам (чего, мол, грузины обиделись, русским-то от меня куда хлеще достаётся). Главное же в «Царь-рыбе» – азартное искушение включить и украинца в общесибирский конкурс на роль самого крутого представителя рода человеческого в состязании с Природой.
Украинского тут – не так уж много. Разве что – до юмора доходящий гигантизм масштабов. Если жрёт – то отхватывая зубами по полбуханки. Если храпит – то так, что мечется костёр. Если плывёт в лодке – так бочкой выпятив грудь (которая уже не кажется «пухлой»). Достойный претендент на звание Царя Природы, хотя и не без изъяна, заключающегося в некотором недоборе изящества.
Каковой изъян немедля компенсируется в фигуре ещё одного ловца. Это старший командоров брат по имени Игнатьич. Тут к железной хватке прибавляются ещё и точность профессионального расчёта, выучка и выдержка мастера (за что ему – ради вящей убедительности контраста – смертельно завидует младший брательник Командор).
Игнатьич, кажется, и есть отобранный Астафьевым из шеренги крутых мужиков чемпион человеческой силы и фарта, именно ему доведётся выйти на итоговый поединок с природой, которую представляет – мы уже поняли, кто.
Царь-рыба. Но не похожая на ту стерлядку, которой размахивал, похваляясь, бросовый человечишка – непотребный Дамка.
Тут масштаб наконец-то достигает мечтаемых пределов гигантомании: на доисторического ящера похожа рыбина. Эдакий боровище. И материал, наконец-то, делается под стать камню и железу. Чешуя скрежещет, панцирь словно отлит из бетона. И силища – такая, что Игнатьич ни вытянуть не может эту загадку природы, ни освободиться от неё.
И тут в глубине природного чуда обнаруживается обескураживающий провал. Не умные глаза зверя видны под царским черепом, а поросячьи глазки, бессмысленно-сытые. И эта царица вод, эта махина плоти, словно опоясанная цепью бензопилы, – выкармливается речным хламом, вырастает, «на козявках и вьюнцах» и ничего иного в себе не таит?
Самое страшное: человек и осётр, Венец природы и Царь-рыба, – никак не могут расцепиться. И рад бы уже человек отпустить рыбу, а не в силах: они оба в ловушке. «В общей ловушке». Их караулит одна и та же мучительная смерть. И если задуматься, что смерть эта, кара эта, настигает человека за грехи, и даже за полузабытый грех, по молодости совершённый, в коем уже давно человек покаялся, – всё равно возмездие неотвратимо. Ибо кто без греха?
Философский ступор разверзается меж; стрежнем и омутом. Не вписать эту сцены ни в кудрявую фактуру рыбацких баек, ни в системную стройность какого-никакого реализма, хоть социалистического, хоть критического. Разве что в интуицию писательской жены Марьи: ты сам-то понимаешь, что написал?
Стремясь понять это, я ставлю ключевую астафьевскую сцену в контекст другой философски насыщенной повести, которой в 50-е годы зачитывалась и бредила вся наша читающая страна, это – «Старик и море» Хемингуэя.
И там, и тут – поединок человека и рыбы, вырастающий до философского вопроса о жизни и смерти. Но там, у Хемингуэя, спор разворачивается в сверкающей голубизне моря-неба, это спор равных, достойных и ясных друг для друга начал. А тут сцепились начала в мутной, вязкой, тёмной хляби, и не видно ни смысла, ни надежды в этом… даже не столкновении, а в спутывании безысходностей.