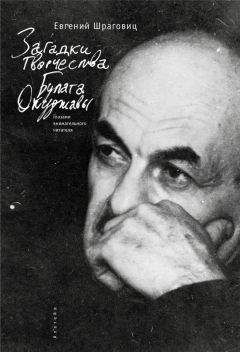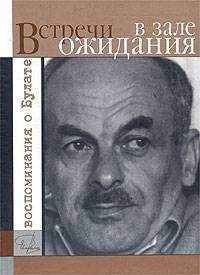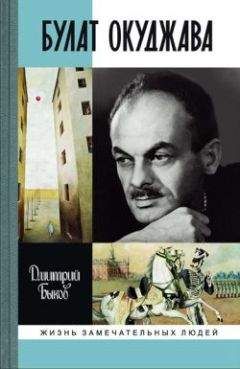Ознакомительная версия.
О происхождении песни Б. Окуджавы «Шарманка-шарлатанка»
В русской поэзии тема шарманки впервые является в шуточном стихотворении Мятлева «Катерина-шарманка» (1840)[53]; как уже отмечалось, «Песенка о несостоявшихся надеждах» Окуджавы (1974), написанная для кинофильма «Соломенная шляпка», – перифраз этого стихотворения Мятлева[54]. После Мятлева стихи о шарманке можно найти у Апухтина («Шарманка», 1856), Случевского («Шарманщик», 1881), Фофанова («Шарманщик», 1892), Леонида Семёнова («Шарманка», 1904), Бунина («С обезьяной», 1907), Анненского («Старая шарманка», 1909), Цветаевой («Шарманка весной», 1909), Кривича («В сером доме», 1912), Мандельштама («Шарманка», 1912) и Георгия Иванова «Шарманщик» (1911–1914(?)). Тема шарманки возникала и у Блока («Зачатый в ночь», 1907), и – правда, совсем вскользь – у Гумилёва («Когда я был влюблён», 1911). Ограничим список написанным до Первой мировой войны, так как именно к этому периоду относятся стихи, с которыми мы будем сравнивать песню Окуджавы.
По содержанию перечисленные стихотворения можно разделить на три группы. В первой звук шарманки определяет общее пессимистическое настроение или воплощает некое негативное начало: так, у Апухтина: «А шарманка всё громче, звучнее, всё болезенней ноет кругом», у Случевского: «Эта шарманка, что уши пилит, мучает, душит… я мыслью сбиваюсь», у Фофанова: «Чтоб дряхлые звуки шарманки твоей не вызвали б слёзы из тусклых очей», у Семёнова: «На улице пела тоскливо шарманка», у Цветаевой: «На дворе без надежд, без конца заунывно играет шарманка», у Кривича: «Шарманка фальшивая ныла в туманном колодце двора» и у Мандельштама: «Шарманка, жалобное пенье, тягучих арий дребедень, как безобразное виденье, осеннюю тревожит сень…»; сюда же можно отнести и «мотив надтреснутой шарманки» у Гумилёва. Во вторую группу входят стихи, в которых шарманка – по-разному воспринимаемый символ: это «Катерина-шарманка» Мятлева, «Старая шарманка» Анненского; сюда же можно отнести шарманку Блока («Зачатый в ночь»). Мятлев уподобляет судьбу шарманщику, меняющему картинки и мелодии («Судьба – шарманщик итальянец»); у Анненского игра шарманки уподобляется процессу творчества:
Но когда бы понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя не мучась?[55]
Блок ассоциирует шарманку с голосом судьбы, извещающей избранника о его предназначении – быть поэтом:
Что быть должно – то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот – я стал поэт.[56]
Наконец, к третьей группе принадлежат стихи о горестной судьбе шарманщика: «С обезьяной» Бунина и «Шарманщик» Георгия Иванова. Стихотворение Бунина начинается с «Ай, тяжела турецкая шарманка! Бредёт худой, согнувшийся хорват» и продолжается описанием того, как шарманщик и его обезьянка страдают от жажды и как шарманщик на последнюю копейку покупает обезьянке воду. Особый интерес, однако, представляет для нас стихотворение Иванова, две первые и последняя строфы которого приводятся ниже[57]:
С шарманкою старинной
(А в клетке – какаду)
В знакомый путь, недлинный,
Я больше не пойду.
Не крикну уж в трактире, —
Ну, сердце, веселись!
Что мне осталось в мире,
Коль ноги отнялись.
Пойдёт он весью тою,
Где прежде я певал,
Под чуждою рукою
Завсхлипывает вал.
В комментарии к этому стихотворению А. Арьев замечает: «Оригинальность в повороте сюжета у Г. И. заключается в том, что он, в отличие от остальных авторов, заставляет шарманщика думать о расставании со своим инструментом», и далее: «Заключительный аккорд сводит сюжет к навеянному Анненским (и излюбленному им) олицетворению инструментов: в его «Старой шарманке» из «Кипарисового ларца» «старый вал» не перестаёт петь, хотя «петь нельзя не мучась»[58]. Аллюзия на Анненского у Георгия Иванова, действительно, присутствует, но ограничивается использованием олицетворения в обороте «завсхлипывает вал»; в остальном стихи Иванова гораздо ближе к акмеистической традиции.
Для последующего полезно уточнить, что причиной расставания с шарманкой у лирического героя становится потеря способности к передвижению («ноги отнялись»), а также – и это едва ли не существеннее, – что метрически стихотворение Иванова совпадает со знаменитой шарманочной песней «Разлука», которую поэты, писавшие о шарманке, не могли не слышать несчетное число раз и которая была, что называется, на слуху у публики конца XIX и начала ХХ веков, да и позже:
Разлука ты, разлука,
Чужая сторона.
Никто нас не разлучит,
Лишь мать – сыра земля.
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют,
И нас с тобою, миленький,
Разлуке предают…
и т. д. (нередко, как и во всех городских романсов, с вариациями).
Из всех многочисленных стихотворений о шарманке трехстопным ямбом написано лишь одно – «Шарманщик» Иванова. Иванов обожал Блока, так что аллюзия «я певал» на блоковское «так пела… шарманка» навряд ли случайна, однако есть и существенное различие: «пела… шарманка» – метафора, между тем как «я певал» – не троп, а прямое изображение повседневной для лирического героя реальности. В общем, хотя в стихотворении Иванова прослеживается влияние Блока и Анненского, так или иначе ассоциирующих шарманку с поэтическим творчеством, в целом оно ближе к стихам о тяжёлой жизни шарманщиков.
Наконец, Окуджава к теме шарманки обращался не раз: дважды незадолго до служащей предметом нашего анализа «Шарманки-шарлатанки» («Когда затихают оркестры земли…»[59]в 1959, опубиковано лишь в 1967, и «По утрам за колхозной площадью…»[60] в I960) и дважды значительно позднее («Шарманка старая крутилась…»[61] в 1974 и песня папы Карло «Из пахучих завитушек…»[62] в кинофильме «Приключения Буратино» в 1975)[63]. «Шарманка-шарлатанка» в самом полном на сегодняшний день собрании стихов и песен Булата Окуджавы датирована 1960–1961 годами и включена в раздел «Шестидесятые»[64], Л. А. Шилов датирует ее 1962 годом, а некоторые другие – от 1957 до 1961[65]. Вот текст этой песни полностью:
Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поёшь!
Шарманка-шарлатанка, куда меня зовёшь?
Шагаю еле-еле, вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут?
Работа есть работа. Работа есть всегда.
Хватило б только пота на все мои года.
Расплата за ошибки – она ведь тоже труд,
Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют.
Аллегория очевидна: шарманка – это эмоциональный мир поэта, или, если угодно, его олицетворение – Муза, то есть, по нашей классификации, текст относится к той же группе, что и стихи Мятлева, Блока и Анненского.
Правда, с самого начала возникает вопрос, почему шарманка названа шарлатанкой, раз в русском языке «шарлатанка» принадлежит полю значений, связанных с мошенничеством, ложью и т. п. В контексте стихотворения, однако, сочетание «шарманка-шарлатанка» становится понятнее, коль скоро шарманка ассоциируется со сферой чувств, которые могут обманывать, заставляют поступать опрометчиво и страдать от этого; но именно благодаря сильно развитой эмоциональной составляющей художник становится художником, а инстинктом самосохранения он обычно не руководствуется. Ясен тут и намек на известную песенку «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка» – песенка появилась в начале ХХ века в сравнительно невинном ресторанном варианте, а возможно, тогда же и в шарманочном, позже превратилась в «блатную» и теперь существует во множестве вариантов жанра «шансон»[66]. («Так, куплеты гражданской войны с рефреном “Ах. шарабан мой…” теряют неактуальные более строки, “добирают” популярной уголовной экзотики и превращаются в блатную песню»[67]). Окуджава избегает высокопарности и намеренно снижает пафос с помощью блатных ассоциаций, в данном случае связанных со словом «шарлатанка»; далее, уже в последней строке, снижение используется еще раз, так как выражение «когда под рёбра бьют» намекает либо на драку, либо на избиение следователем, а то и другое часто упоминается в блатных песнях.
Второе четверостишие «Шарманки» содержит аллюзию на уже упоминавшуюся «Старую шарманку» Анненского.
Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленьи мая
Все никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.
И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что не к чему работа,
Что обида старости растет
На шипах от муки поворота.
Но когда бы понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя не мучась?
Анненский представляет отношения шарманки и её вала как аллегорию внутреннего конфликта в личности поэта, поскольку вал, вроде бы описанный отдельно, – это часть шарманки, и у них общая «участь». При этом шарманку можно ассоциировать с творческим импульсом – или, иначе говоря, с Музой поэта, которая побуждает его творить, а вал – с сознанием, участвующим в процессе создания произведения, который порождается этим импульсом. Сам этот процесс может быть мучительным в силу множества причин как личного, так и общественного порядка.
Ознакомительная версия.