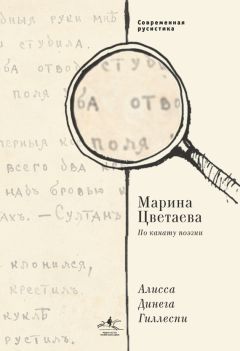Ознакомительная версия.
Третья строка третьей строфы знаменует конец списка надлежащих женских черт и осуществляет своего рода иронический поворот: «Я только девочка, – молчу». Каждая из двух частей этого высказывания может быть прочитана двояко – во-первых, как создающая мнимое впечатление подчинения социальным нормам, во-вторых, как отвергающая это подчинение. «Я только девочка» можно интерпретировать как самоумаление, принижение гендерной принадлежности поэта, и свойственных девочкам способностей; однако если сделать акцент не на слове девочка, а на слове только, эта же фраза оборачивается скрытой угрозой зреющих сил: «Я пока еще только девочка, но погодите!». Глагол молчу – единственный, что характерно, глагол в личной форме во всем стихотворении, – также обоюдоостр, поскольку, хотя поэт, как кажется, соглашается молчать, в этой капитуляции есть ирония – ведь молчание декларировано в контексте этого обманчиво простодушного стихотворения: очевидно, что на самом деле лирическая героиня вовсе не молчит. Уже то, что декларация молчания оказывается единственным вербальным действием во всем стихотворении, указывает, что для Цветаевой молчание – это, на самом деле, подвиг: она знает гораздо больше того, что говорит, однако помалкивает об этом. Одновременно двойственное молчу свидетельствует о противоречии ее юношеского бытия: она кротко подчиняется нормам социума, к которому принадлежит в повседневной жизни, но, невидимо для взрослых, прозаичных и приземленных запретителей, ее бунт совершается в сфере поэзии[34]. Цветаева рискованно балансирует на грани юности; провал, отделяющий мир взрослых от мира детей, настойчиво возникает и во многих других стихотворениях этого периода.
В последней строфе стихотворения «Только девочка» все глаголы, связанные с возможными действиями лирического субъекта, снова стоят в инфинитиве – однако здесь эта форма передает значение уже не запрета, а возможности, поскольку помещена в рамки фразы, выдержанной в сослагательном наклонении, передающем тайные желания поэта:
Ах, если бы и мне
Взглянув на звезды, знать, что там
И мне звезда зажглась
И улыбаться всем глазам,
Не опуская глаз!
Кажется, что две причудливо-капризные мечты, которые Цветаева противопоставляет бессчетным репрессивным нормам, перечисленным ранее, лишь по касательной затрагивают стоящую перед ней трудную проблему. На самом же деле эти две мечты представляют собой поправку к тем двум аспектам гендерной принадлежности, которые представляются ей особенно невыносимыми. С одной стороны, тоска по тому, чтобы звезда зажглась для нее, – символ реализации ее судьбы как поэта, – подразумевает осознание несоединимости «женскости» и поэтического таланта, о чем шла речь и в стихотворении «В Люксембургском саду». Важно, что об этой несоединимости говорит интуиция поэта, а не накладываемые на ее жизнь социальные ограничения («знать» здесь перекликается с «Но знаю» из предыдущего стихотворения и связано с тем же глубоким, почти пророческим знанием своей поэтической судьбы)[35]. Мечта же о том, чтобы улыбаться людям, «не опуская глаз», связана с теми проблемами, которые возникают из-за ее гендерной принадлежности уже не в сфере поэзии, а в сфере человеческого и телесного существования (метонимически представленной глазами). Хотя опущенные глаза могут быть интерпретированы как изображение ложной скромности, предписываемой социальными приличиями, есть ощущение, что говорящая опускает взгляд невольно, под влиянием чувства стыда или неудобства, вызванного ее непохожестью на других молодых девушек. Любопытно, что впоследствии в поэзии Цветаевой опущенные глаза становятся символом ясновидящего поэтического взгляда, то есть образом превосходства, а не ущербности[36].
Таким образом, это стихотворение оказывается, по существу, совершенно не тем, чем кажется, а именно, вовсе не упреком женщины-поэта обществу, затрудняющему ей жизнь. На самом деле, Цветаева неожиданно подменяет категории конфликта: пусть общество предписывает женщинам определенное поведение – эти ограничения можно нарушить, были бы только время и воля. Истинная задача, которую ставит перед поэтом принадлежность к женскому полу, – это найти способ победить свою собственную уверенность в оксюморонности сочетания «женщина-поэт», преодолеть ощущение неловкости в мире людей (отсюда мечты о зажегшейся для нее звезде и прямом взгляде). Артикулируя эти мечты, она тем самым принимает на себя полную ответственность за описанную дилемму, которая вследствие этого переходит из сферы чисто социальной в экзистенциальную, собственное же положение Цветаевой в результате перестает быть обычной – женской – проблемой и приобретает статус экстраординарности. Так, парадоксальным образом, юная Цветаева раскрывается как потенциально большой поэт даже тогда, когда выражает глубочайшие сомнения в этой возможности. Более того, важно отметить, что фраза в сослагательном наклонении («Ах, если бы и мне…»), которой заканчивается третья строфа, не «закругляется» определенностью какого бы то ни было ответа («Тогда бы я…»). Это отсутствие грамматического завершения оставляет поэту огромное пространство для поисков решения своих проблем – все ночное небо, сияющее звездами, и всю землю, блестящую мириадами глаз. Сколь бы мучительно ни было самоощущение Цветаевой, лежащие перед ней возможности, вне всякого сомнения, беспредельны.
Трансгрессия женской роли
Теперь обратимся ко второй категории ранних стихотворений Цветаевой о соотношение пола и поэзии, где ей как будто удается полностью преодолеть ограничения, накладываемые гендерной принадлежностью, и отдаться поэзии целиком, ценой отказа от всего остального. Стихотворение «Молитва», написанное в семнадцатый день рождения, представляет собой пылкое прощание с детством. Переизбыток ошеломляющей жажды поэтической, литературной жизни, противоположной повседневному существованию, заставляет поэта страстно молить о скорой, безвременной смерти. Эта молитва служит рамой стихотворения, определяя как его первую строфу:
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня. —
так и последнюю:
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!
В этом стихотворении, в отличие от двух обсуждавшихся выше, прямо не проговорено то обстоятельство, что именно пол Цветаевой препятствует воплощению ее необычайного поэтического стремления в границах реальной жизни.
Вернее, здесь конфликт между женским и поэтическим выражен опосредованно, в том, как лирическая героиня судорожно примеряет одну за другой множество литературных масок, ища подходящую модель для своих героических стремлений:
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень…
Несоединимость этих эскапистских вариантов свидетельствует об их неудовлетворительности; их столкновение, в свою очередь, отзывается и концентрируется в последующем эстетическом конфликте: «Люблю и крест, и шелк, и каски». В этой строке Цветаева превращает связь в разрыв: «крест» и «шелк» объединены во внутренне контрастную пару (набожность vs материализм; духовное vs физическое, страдание vs гедонизм, и т. д.), которая вполне самодостаточна – но тут Цветаева неожиданно повышает ставку, добавляя третью составляющую, «каски», символ насилия, борьбы, неразрешимого конфликта. Ранняя смерть – единственный мыслимый выход из этого головоломного соединения несоединимого.
Однако несмотря на явную ориентированность этого стихотворения на романтическую традицию, Цветаева исходит из свойственного ей трезвого осознания реальности, так что страстные мольбы девочки-подростка о смерти приобретают звучание тщательно продуманной, осознанной иронии. То, что единственно возможный для девушки способ продления своего поэтического бытия – это эффектная смерть, само по себе достаточно красноречиво: перебрав все доступные для женщины роли в литературе, она обнаруживает, что ни одна из них не дает возможности для активной самореализации женщины-поэта. Иными словами, во всех перечисленных ею ипостасях женщины, будь то монахини или амазонки, являются объектами мужской репрезентации и желания, а отнюдь не пишущими, творческими субъектами. Единственное, что остается девушке-поэту для преодоления собственного пола, – присвоить себе эту мужскую репрезентацию и желание; однако она обнаруживает, что не способна продвинуться так далеко, чтобы четко сформулировать идеал женщины как субъекта. Смерть – единственное доступное разрешение этой дилеммы, поскольку трагическая ранняя гибель отвечала бы как интересам литературы (героиня сама становится ярким эстетическим объектом)[37], так и ее собственному поэтическому стремлению к трансценденции (смерть переживается в величайшем одиночестве и в этом смысле является «поэтической» как триумфальная, предельная ступень субъективного опыта, недоступного простым смертным), – иными словами, смерть способна наделить женщину статусом как объекта, так и субъекта[38]. Здесь важно избежать соблазна ретроспективного чтения, исходящего из знания о самоубийстве поэта, – в момент сочинения «Молитвы» Цветаева, конечно, не имела ни малейшего представления ни о тех бедствиях, что ожидали ее в жизни, ни о том, как само ее земное существование должно окончиться чуть более тридцати лет спустя. Страстная мольба о смерти здесь столь же мало свидетельствует о врожденной тяге к самоубийству, как и о часто приписываемой Цветаевой романтической наивности; у нее идея смерти служит осознанной поэтической цели – это метафорический стенографический знак, кодирующий несовместимость женского и поэтического призваний, переживаемую ей с предельной глубиной и мукой[39].
Ознакомительная версия.