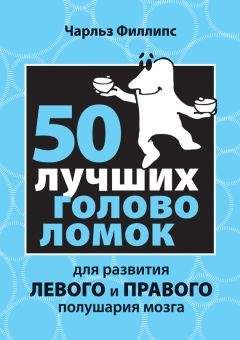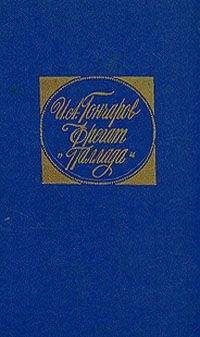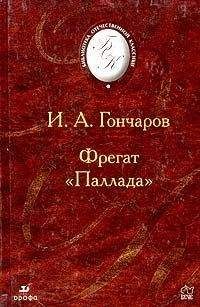202
И. В. Всеволодов. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990. С. 238.
Подробнее о разработке первых советских денег см. на сайте: www.bonistikaweb. ru/gleizer.htm
Геннадий Барабтарло. Сверкающий обруч: О движущей силе у Набокова. СПб., 2003.
Юрий Цивьян написал книгу, долженствующую вскорости выйти в свет, о новой науке, которую автор наименовал «карпалистикой» – наукой о жестах. Название взято из набоковского «Пнина», романа, «где жест выступает не только как сквозной литературный прием, но и как тема». Никто пока не отвечал на вопрос, зачем это понадобилось Набокову. Ответ в имени героя: Т. Пнин. Даже надевая пальто (обе руки в рукава и в стороны), или разводя их (жест «обезоружен»), или изображая, что значит по-русски «всплеснуть руками» и т. д., пародируемый американский профессор настойчиво демонстрирует жест распятия. Тимофей Пнин – «распненный» Пан, он распят на перекрестке культур и языков, болезни собственной и страданий мира («панического ужаса»), своей любви, подвешен на пересечениях улиц, парковых аллей и железнодорожных путей. Распят, но жив – не умер, как возвещал возглас древнего предания.
О загадочной фразе из псевдоитальянской арии разговор придется вести отдельно, чтобы показать и услышать ее печальный и лукавый жизнеутверждающий мотив. Ведь даже простая «логика» пения не предполагает, что буквы арии кто-то (Цинциннат, например) будет рассыпать и восстанавливать в фразу «Смерть мила, это тайна». А именно к такому результату пришел Барабтарло после «скраблево» – анаграмматического аттракциона.
Долговечнее меди (лат.).
В. Г. Бенедиктов. Стихотворения. Л., 1983. С. 213.
Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки: т. II: 1919–1939. М., 2001. С. 368.
Николай Асеев, «поэтусторонний», как он сам себя назовет, в стихотворении «Последний разговор», обращенном к Маяковскому, уже потустороннему, напишет:
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий, слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна…
(Николай Асеев. Стихотворения и поэмы. Л., 1967. С. 282–283).
«Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна… Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задавала и их почему-то умышленно скрыла. В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась ночью» (IV, 36).
Ср.: ««Еще не звук» и «уже не звук» – вот что важно исследовать и испытать тому, кто занимается фортепианной игрой» (Генрих Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. М., 1999. С. 68).
Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 139. Слова, по Белому, избавляют от страдания. Он признавался Гумилеву: «Я переделал Евангелие от Иоанна. Помните? «В начале бе Слово». Но «слова» по-французски – mots и «страдания» – тоже maux, фонетически совпадает, одинаково произносится. И это правильно. Ясно. В начале – mots, или maux – страдания. Мир произошел из страданий. И оттого нам необходимо столько слов. Оттого, что слова превращаются в звуки и свет и избавляют нас от страдания. «Les mots nous delivrent des maux» [Слова избавляют нас от страданий (франц.)]» (Ирина Одоевцева. На берегах Невы. М., 1989. С. 225).
Белый вспоминал о Штейнере: «Вот почему и на эзотерических уроках вторую часть лозунга произносил он: «Ин…, – наступало молчание (и – сквозь глаза его виделся Кто-то), – …моримур» [In morimur – «в нем мы умирали» (лат.)], – произносил он отрывисто, строго-взволнованно, как бы наполненный жизнью того, что стоит между «ин» и «моримур». К этому молчанию в докторе я и апеллирую; чтобы стало ясно, что переживали мы в Лейпциге и чего именно нет в изданном «курсе». Знаю: он давал медитации, смысл которых был в жизни Имени в нас: место Имени – будто случайные буквы. Медитация над Именем – путь: доктор не был лишь «имяславцем». Взывал к большему: к умению славить Имя дыханием внутренним с погашением внешнего словесного звука: к рождению – слова в сердце» (Андрей Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 496–497). Молчание, чреватое словом, mot, у Цветаевой: «О мои словесные молчаливые пиршества – одна – на улице, идя за молоком!» (Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в двух томах. 1913–1919. М., 2000. Т. I. С. 437).
Мандельштам легко бы мог так сказать. В первом из его восьмистиший:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя. (III, 76)
Белый писал: «Ритм – первое проявление музыки: это – ветер, волнующий голубой океан облачной зыбью: облака рождаются от столкновения ветров, облачная дымка поэзии – от сложности музыкальных ритмов души» (Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 175). Первообразный ритм дыхания – молчаливый ткач стиха. «Я ритмом дышал…» (Анненский). Ритмическая схема – лодочкой (п —). Ветер вдоха и выдоха наполняет паруса, легато переходит в регату. Дыхание поэта пробуждает пространство, которое приходит ему на помощь. Дуга – форма мира и структурирующей этот мир поэтической речи:
Люблю появление ткани… (…)
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих. (III, 76)
Вл. Пяст. Встречи. М., 1997. С. 110–111. «Гора божество, – писала Марина Цветаева. – Гора дорастает до гетевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора – это (…) моя точная стоимость. Гора – и большое тире (.), которое заполни глубоким вздохом» (Переписка Б. Пастернака. М., 1990. С. 348; письмо Б. Пастернаку от 23 мая 1926 г.). То есть имя Ахматовой – богоподобная вершина, которая заполнена и держится глубоким вздохом. Только в ритме дыхания имя обладает обозримостью и полнотой присутствия. Вздох – не физиологический факт, а явление онтологии. Ритм дыхания есть ритм самого бытия. Поэтому, по Флоренскому, дышать и быть – суть одно (Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 17). Розанов: «Но в моем вздохе все лежит. (…) «Вздох» же – Вечная Жизнь, Неугасающая. К «вздоху» Бог придет…» (II, 622). Тире здесь не орфографический знак, а онтологический оператор работы неязыковых структур, оно – зримый эквивалент дыхания, вздоха.
Андрей Белый. Глоссолалия. Поэма о звуке. М., MMII. С. 20.
Велимир Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940. С. 152.
Ролан Барт. Нулевая степень письма // Семиотика. М., 1983. С. 313.
Владимир Набоков. Стихотворения. СПб., 2002. С. 363.
Лесков – мастер таких языковых игр. Например, из «Захудалого рода»: «Это, воля ваша, лучше, чем породой кичиться, да joli-мордиться и все время с визитами ездить…» (франц. joli – «красивый, пригожий») (V, 126); не менее красноречивый пример в «Совместителях. Буколической повести на исторической канве»: «Среди интендантов граф Канкрин был очень известен по его прежней службе, а может быть и по его прежней старательности в ухаживаниях за смазливыми дамочками, или, как он их называл, «жоли-мордочками». Это совсем не то, что Тургенев называет в своих письмах мордемондии. «Мордемондии» – это начитанная противность, а «жоли-мордочки» – это была прелесть» (VII, 401).
«Поток сознания, или Внутренний Монолог – способ изображения, изобретенный Толстым, русским писателем, задолго до Джеймса Джойса. Это естественный ход сознания, то натыкающийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то, как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира; своего рода запись сознания действующего лица, текущего вперед и вперед, перескакивание с одного образа или идеи на другую без всякого авторского комментария или истолкования» (Владимир Набоков. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 263).
Один, очень популярный ныне, господин в свое время категорично заявлял: «В поэтических жанрах (…) естественная диалогичность слова художественно не используется, слово довлеет себе самому и не предполагает за своими пределами чужих высказываний. Поэтический стиль условно отрешен от всякого взаимодействия с чужим словом, от всякой оглядки на чужое слово. Столь же чужда поэтическому стилю какая бы то ни было оглядка на чужие языки, на возможность иного словаря, иной семантики, иных синтаксических форм и т. п., на возможность иных языковых точек зрения» (М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 98). Мы другого мнения. Цветаева, которая сама себе bande а part, признавалась: «Я – много поэтов, а как это во мне спелось – это уже моя тайна» (Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. М., 1995. Т. VII. С. 408). Она же о Пастернаке, отмечая суть поэзии как вулканически-сообщающегося события встречи: «Он после каждой моей строки ходит как убитый, – от силы потрясения, силы собственного отзыва…» (Там же. С. 388). «Жгучий интерес взаимного ауканья», – как однажды обмолвился в своей переписке с Львом Толстым Н. Н. Страхов и для верности выделил на письме это понятие. Поэзия – вечный зов и ненасытность отзыва.