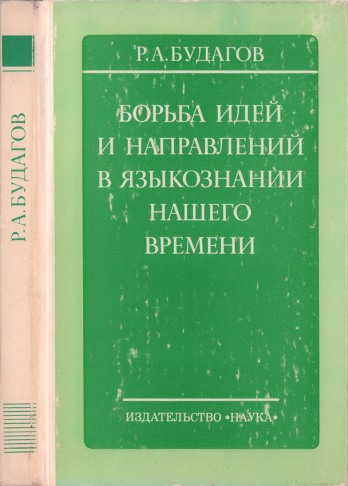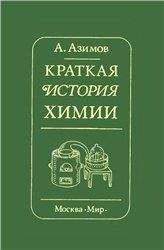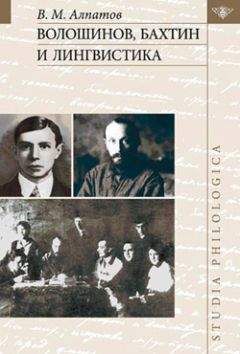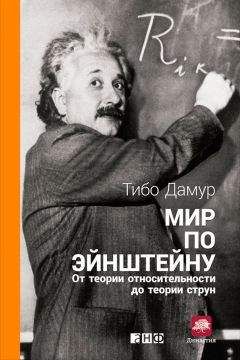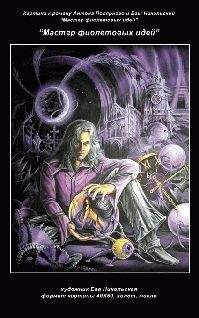лучше песня, где немножко
И точность точно под хмельком.
Все это, разумеется, не означает, что поэтическая точность – это полуточность. Речь идет совсем о другом. В системе поэтического стиля (в широком смысле) сами признаки точности становятся иными. Чехов подчеркивал, что при непрямой передаче каких-либо признаков предмета эти признаки обращают на себя большее внимание и запоминаются прочнее, чем при прямом их выражении. Знаменитые слова Тригорина из «Чайки» об изображении лунной ночи («блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова») показывают силу, хотя и непрямого, но очень точного изображения. Больше того. В свете такого понимания языка и стиля художественного произведения непрямое описание вообще оказывается точнее прямого описания: оно быстрее и убедительнее достигает своей цели, чем описание прямое, предметное.
Все определяется функционально. Характер точности детерминируется характером стиля художественной литературы определенной эпохи, характером определенного литературного направления.
«Французский художник Матисс, – вспоминал И. Эренбург, – показал мне однажды двух разгневанных слонов, вырезанных из кости жителем Черной Африки. Одно изображение меня особенно поразило. Матисс спросил, не замечаю ли я чего-либо странного. Я ответил отрицательно. Тогда Матисс показал мне, что у одного слона, который меня восхитил, подняты вверх вместе с хоботом бивни. Это придало ему выразительность. Матисс усмехнулся. „Приехал один дурак, который сказал, что бивни не могут быть подняты вверх. Негр послушался и сделал вот это… Видите – здесь бивни на месте, но искусство кончилось…“» [62].
Поднятые бивни – вообще говоря, неточность, но в данном случае они великолепно передают замысел художника (разгневанного слона) и поэтому верно (точно!) служат искусству. И точность здесь выступает не как биологическая точность, а как точность языка искусства. И все подлинные художники это великолепно понимают.
В свое время В.М. Жирмунский показал, что за двести лет своего развития русская рифма от Ломоносова до Маяковского прошла путь от рифмы точной к рифме неточной, но выразительные возможности этой неточной рифмы стали несравнимо бóльшими, чем выразительные возможности рифмы точной. Само понятие «неточной рифмы» переосмысляется: она остается неточной в чисто формальном плане и точной и выразительной – в плане функциональном [63]. Чтобы понять глубокое своеобразие самого понятия точности в стиле художественной литературы, приведу такой пример. Когда в первом томе «Войны и мира» Л. Толстого Николай Ростов видит перед собой «эскадрон с однообразно-разнообразными лицами», то приведенное словосочетание, первоначально кажущееся неточным и даже противоречивым, по существу очень точно передает впечатление молодого Ростова от армии: лица солдат ему кажутся и однообразными, и разнообразными одновременно. Они однообразны в своей массе, но разнообразны индивидуально. И Ростов видит это. И неточности здесь никакой не оказывается. Неточное арифметически (либо однообразные, либо разнообразные) оказывается точным психологически.
И художественная литература, шире – искусство имеет дело прежде всего с такой психологической точностью. Ею же пронизан и язык художественной литературы. Ему приходится постоянно иметь дело с точностью особого рода, играющей решающую роль в художественном восприятии.
Как только что было подчеркнуто, сказанное, разумеется, не означает, что язык художественной литературы довольствуется полуточностью. «Однообразно-разнообразные лица» не полуточно, а очень точно передают первые впечатления Ростова от войны, «поднятые бивни слонов» – очень точно выражают их гнев. В искусстве, следовательно, обнаруживается не полуточность, а точность особого рода, которая не сводится к формулам «да – нет», к «черно-белому», а опирается на оттенки, без которых она сама была бы невозможна. Речь идет, разумеется, о большом искусстве, о языке больших писателей.
Когда к поэтическому языку предъявляют чисто арифметические требования, тогда обнаруживают «расплывчатость» его смысла, его мнимую неточность. Об этой расплывчатости писал у нас И.И. Ревзин вслед за румынским математиком С. Маркусом, автором «Математической поэтики» [64]. Но лишь при антифункциональном подходе к языку больших поэтов и прозаиков можно обнаружить «расплывчатость» их языка. При функциональном же анализе «расплывчатость» оборачивается точностью, определяемой самим назначением художественного текста. Дело в том, что большой писатель вовсе не произвольно выбирает ресурсы языка. И сам этот выбор обусловлен упорными поисками точности.
В 1887 г. в предисловии к своему роману «Пьер и Жан» Г. де Мопассан писал:
«Каков бы ни был предмет, о котором хочешь говорить, есть только одно слово, чтобы его выразить, один глагол, чтобы его одушевить, одно прилагательное, чтобы его охарактеризовать. И нужно искать это существительное, этот глагол и это прилагательное, пока не откроешь их, и никогда не удовлетворяться приблизительностью, никогда не прибегать к подлогам, даже если они удачны, и клоунадам речи, чтобы избежать трудностей…» [65]
Как видим, упорные поиски должны устранить возможные неточности, но найденная точность – это функциональная точность, детерминированная самим замыслом художественного текста. Такая точность может противоречить количественной точности и опираться, например, на такие определения, как «однообразно-разнообразные лица».
В одном из рассказов известного английского писателя Сомерсета Моэма сообщается:
«с позиции логики абсурдно заявлять, будто желтый цвет может иметь „цилиндрическую форму“, а благодарность оказывается „тяжелее воздуха“, но с позиции нашего я могут сближаться самые, казалось бы, несоединимые понятия» [66].
И создателям художественной литературы постоянно приходится иметь дело с такого рода явлениями. Писатели нашей эпохи оперируют понятием такой точности, которая допускает самые неожиданные словесные сближения. Поэтому и точность в языке художественной литературы может принципиально отличаться от точности в научном стиле изложения.
Специфика языка художественной литературы, очевидная уже в прозе, еще более ярко проявляется в поэзии. Здесь вступает в силу закон «боковых смыслов» слова, о котором в свое время, совсем в другой связи писали Ю.Н. Тынянов и Б.М. Эйхенбаум. Приведу один из их примеров. В четырехстишье:
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем,
Свежо и остро пахли морем
На блюдце устрицы во льду.
«Слово устрицы, – комментирует Б.М. Эйхенбаум, – насыщается здесь боковым смыслом, благодаря, с одной стороны, словам пахли морем, которые… порождают новый круг эмоциональных ассоциаций, а с другой – благодаря корреспонденции остро – устрицы. Точно так же корреспонденция на блюдце – во льду взаимно окрашивает эти слова, затемняя их основные, вещественные значения и оттеняя боковые – не предметные, а эмоциональные, чувственные» [67].
В таких условиях точность выражения предполагает опору не на предметные значения слова, а на значения, рождающиеся в данном контексте.
Несмотря на то, что мировая художественная литература XIX – XX вв. показала и доказала, что в языке, на котором она создается, читатели имеют