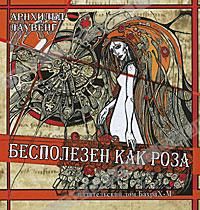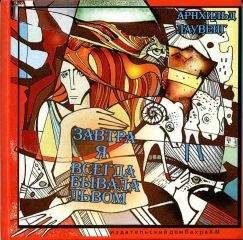Судя по всему, на меня сильно повлиял интернат, в котором я тогда жила. Среди пациентов были широко распространены упаднические настроения, умение с пониманием относиться к своей болезни, и большой популярностью пользовалась «теория заклинивания». Вкратце она сводилась к тому, что все мы больны, у всех есть диагноз, поэтому время от времени нас заклинивает, и с этим мы ничего не можем поделать, так как это от нас не зависит. Когда заклинит, у нас начинаются страхи, мы слышим голоса или впадаем в угнетенное состояние, и тут ничего не остается, как терпеть свои симптомы. Ужасающее бессилие и утешительная безответственность. До этого ощущение собственного бессилия и чувство безнадежности слишком пугали меня, не позволяя мне принять эту теорию, но теперь я дошла до изнеможения, и вдобавок у меня установился более живой контакт с другими обитателями отделения, в котором я лежала. Я чувствовала к ним симпатию, некоторым начала даже доверять и потому, обретя предпосылки к социализации, была более подвержена как хорошему, так и дурному влиянию этой среды. Они поддерживали меня, они стали моим социумом, дали мне ощущения принадлежности к определенной группе людей, но в результате этого для меня стало сложнее выражать несогласие. Ведь если бы я стала настаивать на своем праве выбора, свободной воле и ответственности, разве я тем самым не обвинила бы тех, кто считает, что у них они отсутствуют? А поскольку я не делала того, что хотела делать, это стало лишним подтверждением теории, которая гласила, что у меня нет выбора, что решение за меня принимает болезнь.
Однажды я слышала такую историю: если ты наловил крабов и держишь их в бочке, тебе не нужно ее ничем закрывать, потому что если один краб попробует удрать, остальные не дадут ему вылезти и утянут на дно. Примерно то же самое происходило и в том отделении. Там было очень спокойно и безопасно, чувство общности было очень сильно, но только до той поры, пока ты не заговариваешь о свободе выбора и не стараешься вылезти из бочки в окружающий мир. Стоило этому случиться, как кто-нибудь тут же хватал тебя за ногу и утягивал к себе на дно. По крайней мере, так было по моему ощущению. С точки зрения биологии эта история не соответствует истине, зато мы, люди, вполне в состоянии придумать множество способов, как утягивать друг дружку на дно, и даже переносим это свойство на других, например, на крабов. Когда краб пытается вылезти из бочки, другой краб цепляется за него, и тогда оба сваливаются вниз из-за того, что бочка слишком гладкая, мы же, глядя на них, думаем, что они «утягивают друг дружку на дно». Ведь мы знаем, что люди способны так поступать. Из-за страха перед выздоровлением, после которого ты потеряешь все, что давало тебе ощущение надежности, больные иногда не желают думать о собственной ответственности и потому часто цепляются за более безнадежное представление о своей болезни, чем это, строго говоря, соответствует истинному положению дел. В то же время я знаю, что я, как и все другие люди, иногда легко склоняюсь к тому, чтобы приписывать тем или иным изначально нейтральным поступкам надуманную преднамеренность. Возможно, другие пациенты действительно пытались погасить мой настрой на борьбу за большую самостоятельность, но, скорее всего, мы просто представляли собой группу людей, оказавшихся в трудной ситуации. В борьбе с болезнью мы иногда, действительно, помогали друг другу, но в других случаях мы друг другу мешали или тащили друг друга на дно, хотя на самом деле каждый мечтал выбраться на свободу. Крабы ни в чем не виноваты, да и мы сами, по большому счету, тоже: мы только искали выхода на волю. Вся беда была в том, что бочка попалась чересчур гладкая.
За последние пятнадцать лет количество стационарных мест в психиатрических лечебницах уменьшилось примерно на треть, а между тем все больше становится людей, страдающих психическими заболеваниями. Многие из лечебных учреждений, в которых я когда-то лежала, теперь закрылись или работают в другом режиме, при котором делается упор на эффективность лечения и уменьшение сроков пребывания в стационаре. Общей тенденцией стало теперь лечить больных, не вырывая их из привычной среды. Теперь считается, что мы не должны отрывать больных от обычного течения жизни, а должны лечить человека там, где он живет, тесно сотрудничая с теми, кто составляет сеть его социальных связей. Сейчас в здравоохранении все больше делается ставка на развитие децентрализованных служб: поликлиник, отделений дневного пребывания и бригад скорой помощи на случай обострений, чтобы помогать людям, оставляя их жить дома. Это замечательно. Но я все-таки сомневаюсь, все ли можно оптимизировать и децентрализовать. Мне несколько раз приходилось заводить в доме новых котят и щенят. И мне пока что еще ни разу не удалось оптимизировать процесс их привыкания ко мне и к моему дому. Каждый раз все происходит более или менее одинаково: новоприбывший малыш сначала все обнюхивает, от незнакомых звуков он испуганно вздрагивает и прячется под диван, с любопытством оттуда выглядывает, дергает меня за брюки и тотчас же отскакивает, чтобы спрятаться под комод. Так все и идет своим естественным ходом. Поведение животного мало зависит от его индивидуальных особенностей или от породы, но постепенно малыш начинает все веселее бегать по дому, вертеться, вилять хвостиком, лазить на занавески и грызть домашние тапочки, пока понемногу не вырастает из детства, становясь тем, с кем ты делишь свое жилище. Так происходит каждый раз без исключения, и хотя игры и знаки внимания ускоряют дело, на это все же требуется время. И большую часть этого времени я почти ничего не делаю, кроме того, что присутствую рядом и всегда доступна для малыша, когда он будет готов сделать следующий шаг. Как Лаура, которая сидела рядом и курила, и как персонал больницы, предлагавший экскурсии, групповые занятия, беседы и социальные контакты, как только я буду к ним готова. Не в какие-то специально предназначенные для этого часы, а тогда, когда я буду готова сделать первый шаг. И спасительное убежище, где можно спрятаться: моя палата, душ или место под кроватью, всегда было рядом. Понемногу я становилась все увереннее. Я принималась за школьную программу, снова бросала и снова начинала занятия. На групповых собраниях высказывала свое мнение и брала на себя ответственность в мастерской. Я стала больше разговаривать, больше выходить на прогулки, ездить на автобусе, и скоро была уже готова справиться с более трудными вызовами, как, например, к попытке снова жить самостоятельно в своей квартире. Я поняла, что я никогда не смирялась с судьбой, никогда всерьез не отказывалась от борьбы, я просто перетрудилась и угодила в бочку со слишком гладкими и отвесными стенками. И я поняла, что, наверное, несмотря на все свои страхи и помешательство, и «сниженный функциональный уровень», я все время оставалась на верном пути. Из практических соображений меня перевели в третью больницу, куда меня тоже приняли как долговременную пациентку. Хотя очень многие функции у меня были нарушены и хотя я по-прежнему не была знакома с исследованиями, посвященными процессу выздоровления, в которых встречалось бы понятие плато, я твердо знала, что дети взрослеют, а весна переходит в зиму, которая в свой черед переходит в весну. Мне говорили, что моя болезнь — хроническая, но я уже сама начала догадываться, что, наверняка, существуют и другие возможности. Мне потребовалось много времени, и должны были понадобиться еще многие месяцы, но у меня уже появилось робкое предчувствие, что это не продлится целую вечность.
Знакомство с новым отделением далось мне уже легче, я лишь изредка спала под кроватью, и лишь иногда кралась по коридору, прижимаясь к стенке. Вместо этого я устраивалась одна за отдельным столом и принималась рисовать или писать. Так я могла находиться вместе со всеми, но все же одна, и теперь мне уже хватало такой защиты. Я разговаривала с сиделками, сама объясняла, как я себя чувствую, могла сказать, чего я хочу, однако не все вещи я еще могла с одинаковой легкостью произнести вслух. Поэтому я иногда «забывала» свой рисовальный альбом в общей комнате, чтобы они могли по нему судить о моем состоянии. Однажды я оставила на столе унылый зимний пейзаж с одиноким деревом. Всюду лежат глубокие сугробы, но под деревом видно несколько проталин, а на светлом весеннем небе апрельским сиреневым цветом были написаны строчки: «Кабы весна была в январе, Стал бы унылым июнь». Высказать это непосредственно я не могла, но мне хотелось подать знак, что я не стою на месте. «Кабы птицы пели всю ночь напролет, Унылыми стали бы дни». Пела я редко, но моя речь становилась все яснее. Я не хотела, чтобы меня заставляли торопиться до времени, не хотела, чтобы меня тащили или подталкивали, не хотела, чтобы меня теребили. Я хотела расти. Становление невозможно само по себе, сначала надо существовать. В то время мне нужно было спокойно существовать, просто быть. Я не была счастлива, но рассчитывала, что стану счастливой со временем. Когда вырасту и наберусь достаточно сил, чтобы вместить то счастье, которое я прилежно конструировала. А до тех пор надо было жить, мирясь с тем, что мои цветы еще не распустились. Самое важное было тогда для меня накопить питательных соков и позаботиться о крепких корнях. Цветы я еще успею взрастить потом.