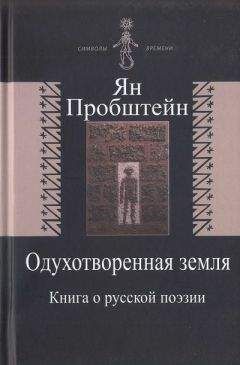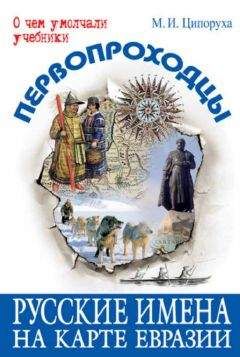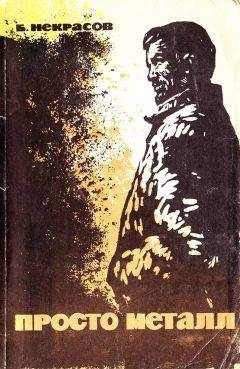Ян Пробштейн
Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии
Из времени в вечность. О метафизичности и экзистенциальности русской поэзии
В поэзии всегда были первопроходцы и разработчики приисков. Вслед за Пушкиным в русскую поэзию пришли те, кто истощил золотые запасы ямба, особенно четырехстопного, утратившего не только изящество пушкинского стиха, но и державинский металл. Однако Лермонтов в поэме «Мцыри», построенной лишь на мужских рифмах, заставил по-новому зазвучать четырехстопный ямб, и явился Некрасов — не только с новыми темами, но и с новой музыкой — трехдольниками с дактилическими рифмами в сочетании с мужскими.
Гениальных современников, Фета и Тютчева, связывала не только личная дружба, но и родственность поисков, стремление уйти с дороги, проторенной Пушкиным, по которой устремились десятки эпигонов, отполировав ямб до такой степени, что стихи проскальзывали, не задевая ни слуха, ни зрения. Оба поэта, ушедшие со столбовой «литературной» дороги и казавшиеся многим современникам дилетантами, стали новаторами русского стиха. Оба избрали малую форму, были лирическими поэтами, каждый из них по-своему развивал жанр элегии. Однако если Тютчев тяготел к архаике и к ораторскому жанру, то Афанасий Фет, как отмечал Эйхенбаум, развивал мелодические принципы Жуковского, избрал романс источником музыкального обновления высокой поэзии, тяготея более к хорею и трехдольным размерам, нежели к ямбу. Без поэзии Фета Блок был бы так же невозможен, как и без городского романса[1]. Так же, как Тютчев, Фет удивительно тонко чувствовал и знал природу, однако если тютчевское отношение к природе можно охарактеризовать как антропоморфизм, стремление наделить природу человеческими свойствами, то Фет стремился скорее в противоположном направлении — перенести свойства природы на человека, передать на фоне природы тончайшие психологические переживания, оттенки чувств, он был мастером светотени. Новатор, обратившийся к архаике, Тютчев, по-своему развивая традиции Державина, наполнил стих новой музыкой и жизнью:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней.
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь,
Ты и блаженство и безнадежность.
(«Последняя любовь»)
Ритмический сдвиг, разбивающий регулярный четырехстопный ямб, добавление безударного слога (в основном на цезуре и в четных строках, но во второй и в третьей строке третьей строфы — до нее: «Лишь там, на западе, бродит сиянье, — /Помедли, помедли, вечерний день», превращающая четырехстопный ямб в логаэд, сочетающий двухстопный амфибрахий в начале и двухстопный ямб в конце) — чарующая неправильность, которая завораживает слух и приковывает наше внимание. Примером не менее резкого нарушения ритма является «Silentium!», когда размеренность четырехстопного ямба разбивают стихи «Встают и заходят оне» в первой строфе и «Дневные разгонят лучи» в последней, написанные трехстопным амфибрахием, несущие образно-семантическую нагрузку и подчеркивающие глубину и неожиданность мысли:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..
Пушкинскую ясность сменяет намеренная затемнённость, несмотря на афористичность: «Мысль изреченная есть ложь». Любой образ и любая мысль выражаются ценой изменения и прочитываются (понимаются) превратно. Не только творчество, но и самовыражение, и соответственно, понимание — дело невозможное и любой перевод с языка образов, ви́дения — с языка божественного на язык земной — искажение. Эту мысль, как известно, впервые высказал Платон в диалоге «Ион». Тем не менее, Тютчев говорит не о мимесисе, то есть об отображении природы, реальности, но мира внутреннего. Однако, мысль эту можно прочесть и сквозь призму современной теории. Например, Жак Деррида считает, что любая интерпретация текста, а тем более перевод как вид интерпретации — дело невозможное и необходим как невозможность. Любое прочтение, интерпретация ведет, говорит Деррида, к «итерации» (переиначиванию) и к изменению, то есть к искажению. Так форма становится содержанием, архаист — новатором, если воспользоваться формулой Тынянова.
Кожинов заметил, что в лирике Тютчева — обилие форм первого лица множественного лица, либо второго лица, как множественного, так и единственного, заменяющие по сути лирическое «я»[2]:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Не то, что мните вы, природа…
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно…
Здесь приемы ораторского искусства, и употребление архаизмов как прием новаторский, о чем писали еще Тынянов и Эйхенбаум[3]. Кроме того, следует отметить, что о замене местоимений первого лица единственного числа в лирической поэзии, местоимениями второго лица на примере анализа лирики Пушкина впервые показали Якобсон, Гуковский на примере анализа лирики В. Жуковского, а Ю. М. Лотман проанализировал лирику Тютчева, назвав это «подменой адресанта адресатом»[4].
По тонкому наблюдению Ю. Тынянова, обратившись к отрывку, фрагменту, Тютчев создал новую законченную форму — философскую элегию[5].
Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник;
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Используя образ, заимствованный у столь почитаемого поэтом французского философа Паскаля: «Человек — мыслящий тростник», Тютчев развивает эту аналогию в противоположном направлении, как бы двигаясь назад к природе, и строя стихотворение на риторических вопросах, одном из приемов ораторского искусства, показывает причину этого разлада. Тончайший лирик Тютчев — один из самых самобытных и глубоких русских философов. Однако, как писал И. С. Аксаков, первый биограф поэта, у Тютчева была «не то, что мыслящая поэзия, а поэтическая мысль»[6]. Поэзия Тютчева — это музыка «мыслящего тростника», такое сочетание высокой философии, ораторского искусства с магией, что отделить одно от другого и разложить на голоса просто невозможно. Как заметил Б. Козырев, ученый-физик, всю свою жизнь посвятивший настолько глубокому изучению поэзии Тютчева, что многие из его тонких и точных наблюдений были взяты на вооружение профессиональными литературоведами, творчество Тютчева, развивавшееся в соответствии с духовной эволюцией поэта, делится на два главных периода. Первый из них можно условно назвать пантеистическим, дохристианским, эллинским, когда поэт находился под влиянием древнегреческих философов так называемой милетской школы Фалеса и Анаксимандра, выстраивая космогонический миф бытия по формуле «Хаос — Бездна — Беспредельное»[7]. Поклоняясь стихии воды и отрицая стихию огня, Тютчев создал удивительно осязаемые образы стихий и природы:
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами.
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
То глас её: он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебной ожил чёлн.
Прилив растёт и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звёздной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Головокружительный образ пылающего небосклона, опрокинутого в воды, является в то же время и образом-символом человеческого бытия — подобное видение не только сродни эллинскому: жизнь, как плавание по безмерной стихии бытия и времени, — один из древнейших и, следовательно, архетипических образов, к которому поэты продолжают обращаться до наших дней. Этот образ и родственное Тютчеву мировосприятие, поэтический мотив, на мой взгляд, характерен также для творчества Паунда, Элиота и Йейтса, Хлебникова, Мандельштама, Борхеса и многих других поэтов. В стихотворении «Последний катаклизм» твердь небесная вновь, но по-иному отражается в водах: