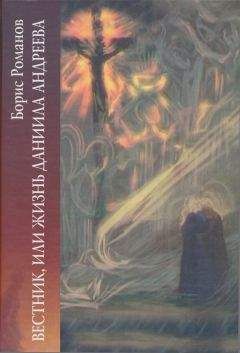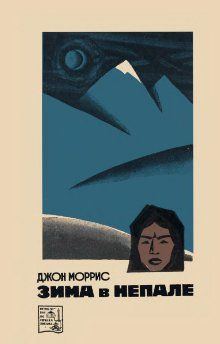О ходе прокурорского доследования и своих хлопотах она рассказала ему на следующем свидании — через месяц. В этот раз удалось передать ей тетрадь с "Железной мистерией". От нее не укрылось его тяжелое состояние: "Не могу успокоиться оттого, какие у тебя были плохие и грустные глазки", — писала она и передавала сплетни, услышанные от бодрой, несмотря на годы, Пешковой. К ней она ездила посоветоваться: что еще можно предпринять. Сплетен набралось много, Екатерина Павловна сообщила две: "1) Даниил ходит босой по снегу с большим крестом на груди; 2) в меня влюбился следователь, хотел меня освободить, просил, чтобы я назвала всех, кто может в этом помочь, и, когда я их назвала, их всех взяли. На первое я сказала, что никакого креста ты не носишь, а хождение босиком не имеет той окраски, которую придали дураки, а связано, очевидно, с нарушением кровообращения, из-за которого тебе трудно обуваться.
Про сплетню обо мне я могла только сказать, что это — страшная чушь. Что же еще можно сказать?"[559]
Неправда растет из правды — он действительно носил в тюрьме пластмассовый крестик и ходил босым, а его жену следователи заставляли признаваться в помыслах убить вождя и называть имена друзей… Другой поползший слух тоже не утешал. Заговорили о его сумасшествии. В этом Андреев винил сокамерника Александрова: "Эта версия создается (искренне и с соболезнованием) В<ладимиром>Александровичем>еще с 50–го года", и удивлялся поверившей в это теще: "Уж, кажется, я ей не подавал поводов. И не понимаю: почему ты ожидала встретить тихопомешанного: разве 25 (или больше) моих длинных писем не доказывали, что я в здравом уме?"[560]
Алла Александровна бегала не только в прокуратуру, но и в другие высокие приемные, советовалась с юристами, собирала подписи под письмом к генеральному прокурору Руденко. Письмо помогла написать жена Шкловского. В нем просили ускорить пересмотр дела "сына знаменитого русского писателя Леонида Андреева" и ходатайствовали о его досрочном освобождении, чтобы тот не умер в тюрьме. Кроме самого Шкловского, письмо подписали девяностолетняя Александра Яблочкина, Корней Чуковский, Константин
Симонов, Константин Федин, Иван Новиков, Павел Антокольский, Тихон Хренников.
Видимо, в сентябре и после обсуждений с женой Андреев написал Главному военному прокурору. Он заявлял о несогласии с решением Комиссии, оставившей ему десятилетний срок, обосновывая несогласие тем, что "невиновен по п. 58–10, как был невиновен и по остальным пунктам обвинения", поскольку: "1) Незаконченный роман "Странники ночи", являющийся основой моего обвинения, не был антисоветским. Он был направлен против отдельных уродливых явлений действительности, получивших ныне заслуженное осуждение под названием "культа личности" и превышения власти органами МВД. Я писал художественное произведение, отображающее сложную и полную противоречий жизнь старой московской интеллигенции в период 1937 года. Различные персонажи романа являлись носителями различных сторон психологии интеллигентного человека того времени. Ни один персонаж не описан целиком "с натуры", хотя иногда я пользовался отдельными чертами окружающих меня людей, иногда же "выдумывал" персонаж целиком. Таким, не имеющим никакого прототипа среди моих знакомых, действующим лицом был один из отрицательных персонажей романа — Серпуховской. Именно в уста этого отрицательного персонажа было вложено высказывание террористических точек зрения, не только не соответствующих моим подлинным взглядам, но и опровергаемых в этом же романе положительным героем — Глинским.
Роман не был закончен и никогда не рассматривался мною как агитационный материал, зовущий на какие-либо враждебные действия. Моей целью было: написать правду о жизни очень узкого круга людей, очень различных, ищущих индивидуальных путей в условиях трудной и далеко не стабилизировавшейся действительности.
Роман не был написан с целью распространения, и мною не делалось никогда никаких попыток его опубликования. Доказательством этого является то, что книга находилась у меня дома в двух единственных экземплярах и даже самым близким знакомым были известны из нее только отрывки.
2) Не признаю себя виновным в антисоветской агитации, потому что никогда и никого, в том числе ни одного человека из моих однодельцев, не призывал ни к террористическим, ни к каким-либо иным враждебным советскому строю действиям. Ни одно из моих высказываний даже и критического характера, если б была возможность восстановить подлинный текст сказанного, а не то, что получилось в протоколах следствия, ни в какой мере не может рассматриваться как антисоветская агитация.
3) Следствие, которое велось согласно инструкциям преступника Абакумова и под его непосредственным контролем, не было объективным и с самого начала имело своей целью фабрикацию "дела". (Мне это было совершенно ясно, была ясна и полная безнадежность попыток снять с себя нелепые и несправедливые обвинения.) Кроме того, следственными органами мне был представлен список в 40 человек, где были даже люди, просто заходившие в квартиру, не считая всех знакомых и родственников моих и моей жены. Мне было сказано, что, если я не буду "сознаваться" в том, что нужно следствию для создания моего "дела", то органы "будут принуждены" немедленно арестовать всех этих людей, т. е. применен метод самого безобразного шантажа.
Я не был человеком вполне здоровым со стороны нервной системы, поэтому ночные многочасовые допросы и вся атмосфера насилия и провокаций, царившая в МГБ 47–48 года очень скоро привели меня в состояние неспособности точно контролировать то, что делалось там под названием "ведения следствия".
По этим причинам я подписывал фальсифицированные протоколы, совершенно искажающие мои высказывания, и мои взгляды, и вообще всю мою личность.
Не говоря уже о полной юридической несостоятельности отождествления точек зрения литературных персонажей с точками зрения автора и незаконности использования художественного произведения в качестве обвинительного материала, указываю, как на пример пристрастного отношения следствия к моей рукописи, на то, что разговор террориста — Серпуховского с Глинским в так называемой "Сцене у библиотеки Ленина" оборван в протоколах именно так, что выброшена та часть, где видна оценка точек зрения двух персонажей.
Таким же пристрастным является уничтожение рукописи, с оставлением в деле только специально подобранных цитат. Роман уничтожен вопреки моему категорическому протесту, показывающему, что еще в 1947–48 году я считал, что рано или поздно эта рукопись не только перестанет быть обвинительным материалом, но, напротив, послужит со временем к снятию с меня всех обвинений.
Прошу о новом пересмотре дела и о полной реабилитации".
11. В круг последних мытарств
"Напрасно ты жалуешься, Проталинка, на малую активность светлых сил: противоположные тоже очень могучи, особенно в этом мировом периоде. Вообще, что делается, что делается!" — писал он жене в эти дни. Объяснить подробнее в письме было невозможно. В "Розе Мира", касаясь метаистории современности, он говорил о хрущевской политике: "Два шага вперед — полтора назад". А в стихах заглядывал в дни завтрашние:
В недрах русской тюрьмы
я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
в тусклооком окошке моем.
Дни скорбей и труда —
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал, —
уже вольные дали видны, —
Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!
В круг последних мытарств
я с народом безбрежным вступаю —
Миллионная нить
в глубине мирового узла…
Сквозь крушение царств
проведи до заветного края,
Ты, что можешь хранить
и листок придорожный от зла!
По указу 14 сентября 1956 года начались досрочные освобождения. 21 сентября на свободу вышли Шульгин, Симон Гогиберидзе, Шалва Беришвили[561] и еще шесть заключенных. По тюрьме, где в камерах улавливались все коридорные шорохи и шепоты, это разнеслось мгновенно. При выходе Шульгину дали подписать обязательство не разглашать условий тюремного режима. Гогиберидзе, с поседевшими висками, но все такой же бодрый, считал, что Шульгин к тому времени, в сравнение с несгибаемостью в 49–м — 51–м годах[562], сломался. Шульгин, конечно, устал — ему исполнилось 78 лет, и отсидел он двенадцать. Узнав, что его выпускают, он попросил валерьянки. Шульгин и Шалва дали, по словам Гогиберидзе, подписку "отрекающегося толка", а он отказался. Может быть, поэтому несгибаемого грузинского социал — демократа после венгерских событий вернули во Владимир досиживать, объявив, что освободили по ошибке? Сроку Гогиберидзе закончился в 67–м, за три года до смерти.