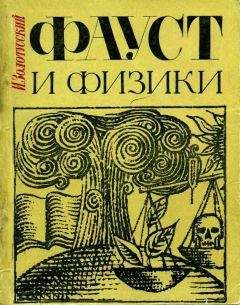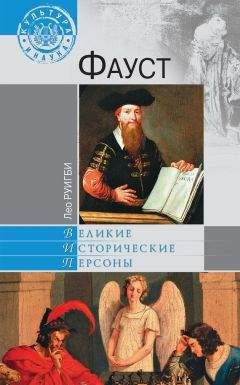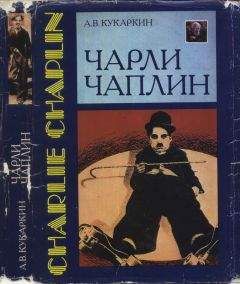Первым замечает это Линцей. Он стоит на башне и вглядывается в ночь. И вдруг в ночи вспыхивает огонь. В его свете Линцей видит, как «листья жгут». Он вскрикивает в ужасе: «Что за ад!»
«Рай» Фауста — это ад. Это ад для доброго Линцея, для добрых стариков. Это торжество черта, а не бога.
И снова бог и черт, как два антипода, возникают в трагедии. Еще в начале пятого действия, когда старики были живы, Филемон сказал страннику: «Старый бог наш — нам оплот!»
Он почти повторил слова Маргариты. Это она тянула Фауста к «старому» богу.
Того же бога чтят старики.
Филемон и Бавкида возникают во второй жизни Фауста как повторенье Маргариты, как ее гонцы, которые повторяют ее вопрос: «А совесть?»
И с ними, как и с Маргаритой, не считается Фауст. Он перешагивает через их жизни, как перешагнул через ее жизнь. Он расплачивается ими за свою «цель», за свое дело, за свою свободу.
Он что-то говорит при этом, он уговаривает себя, что жертвы эти не так страшны. Слыша плач по убитым (Фауст еще не знает, что старики убиты), он оправдывается: «Жалеть уж поздно… Я поспешил… Но пусть золою и пеплом станут липы те, — я скоро башню там построю, чтоб вдаль смотреть на высоте…»
Все та же «высокая цель» выдвигается им как оправдание жертв. Он надеется, что и сами жертвы поймут, что так и надо. Старики его «простят». На «новоселье»— в том месте, которое им «отведено», — им будет неплохо.
Но в эту минуту является черт и не оставляет ни камешка от иллюзий. Черт докладывает: место очищено, стариков нет, приказ выполнен. Правда, со стариками пришлось повозиться. Они не хотели уходить. Даже протестовали. Пришлось убрать, — резюмирует Мефистофель.
Фауст оскорблен. Он негодует:
К моим словам вы глухи были?
Не мена это, а разбой!
Проклятье вашей дикой силе!
Но сколько бы Фауст ни проклинал «дикую силу», она вызвана им. Это он призвал ее на помощь, он привел ее в действие. Мефистофель и его банда могут спросить: чего ты разоряешься? Ведь это ты хотел, это ты сказал: убрать их!
Фауст отворачивается от исполнителей, но он связан с ними одной веревочкой. Он стоит на одном конце этой веревочки, они — на другом. То, что они сделали, было разрешено уже в душе Фауста, в его мысли. Он — убийца-идеолог, они — палачи.
Те, кто отдает приказ, всегда с презрением относятся к палачам. Но и приказывающие — палачи тоже. Это поняла еще Маргарита. Может, не поняла, но почувствовала. Там — в первой части — Фауст еще сострадал ей. Он не хотел этой жертвы. Здесь он грубо потребовал ее.
Мефистофель и «трое сильных» не извратили его приказа. Они поняли, что если поступят именно так, то им ничего не будет. «Патрон» посердится для вида и утихнет. А они будут продолжать служить ему.
И хор, успокаивая Фауста, поет ему: «Сноси охотно силы гнет!» Пусть правитель осознает эти жертвы как неизбежный в его положении «гнет». И у него есть «гнет», и он «страдает». Пусть это будет утешением ему!
Кто смел, кто тверд — будь сам в борьбе
Защитой дому и себе…—
поет хор.
Но Фауст уже остыл, уже примирился с «гнетом». Слабое сожаление, что «слишком скор» был его приказ и «слишком скоро все свершилось», улетучивается. Он снова готов к продолжению своего дела, своей «великой затеи».
Но приближается окончание его спора с чертом.
Фауст освободился от совести, он прогнал Порок, Грех и Нужду, явившихся к его дворцу. Какой же может быть порок и грех, когда нет морали? Когда сила права? Имеющий власть не имеет пороков, у него нет грехов. И для нужды нет у него места: он живет во дворце. И только Забота проникает к нему.
Свидание Фауста с Заботой — последнее противостояние его духа, его сознания. Забота приходит «оттуда», из мира «того», который покинут Фаустом. «Пусть меня не слышит ухо — громок зов мой в недрах духа», — произносит Забота.
Еще не встретившись с ней, Фауст чувствует ее приближение. Он слышит приближение прежней неясности, прежнего незнания. Только что он утвердился в «деле», только нашел «выход», и, оказывается, — «выход» не окончателен. Приближается смутная Забота, смутное сомнение. И Фауст признается себе: «Еще не вырвался на волю я!»
Он думал, что воля — это его власть, его строительство. Это практическая «цель», на которой он остановился. Но снова «весь воздух чарами кишит, и этих чар никто не избежит».
«Чары» для Фауста — это зовы его духа, это со-, мнение, что выход найден. Это проклятое незнание Знания, которому нет конца!
Но есть и другие чары, которыми ослеплен Фауст. Он ослеплен ими до своего фактического ослепления — и это чары власти. Это чары Действия, чары Дела, будто бы исчерпывающего смысл жизни.
Фауст хочет прорваться сквозь эту двойную сеть, эту двойную завесу. «Лицом к лицу с природой стать!» — только этого он хочет теперь. Он хочет перескочить через реальность, через время, через самого себя. Он жаждет очиститься от сиюминутного, чтоб стать наравне с вечным.
Только это сулит ему освобождение от чар, освобождение от иллюзий.
Но перестать быть человеком, Фаустом, — это тоже иллюзия.
И Фауст отталкивается от этого призрака, от этой надежды. Ему нужно осуществление цели здесь, при его жизни. Он кричит Заботе: «Прочь! Удались!»
Но Забота отвечает: «Я кстати здесь, — зачем?»
Она вовремя пришла к Фаусту. Он уже приготовился списать стариков со своей совести, он уже позволил себе и зто ради Дела. Он поставил крест на сомнениях, и дальше уже не станет мучиться. Дальше он не станет играть в прятки с собой (с Мефистофелем-то, пожалуй, он будет продолжать эту игру).
Он ясно будет знать, чего он хочет. И Филемоны и Бавкиды без трепета станут отправляться им в небытие. В конце концов, достаточно раз себе позволить. Идейное оправдание есть, а количество жертв — это уже подробности. Важно сделать первый шаг.
Тут-то и настала пора встряхнуть Фауста, показать ему, кто он. Забота приходит как зов сознания и зов неудовлетворения. Она вступает во дворец Фауста как продолжение мук, с которыми он готов расстаться. И все начинается вновь.
Нет, муки еще не окончены. Нет, Фауст, не вырваться тебе на «волю». Ибо явился «страшный спутник» — Забота.
Фауст отбивается от нее:
Достаточно познал я этот свет,
А в мир другой для нас дороги нет.
Слепец, кто гордо носится с мечтами,
Кто ищет равных нам за облаками!
Стань твердо здесь — и вкруг следи за всем:
Для дельного и зтот мир не нем.
Что пользы в вечность воспарять мечтою!
Что знаем мы, то можно взять рукою.
Фауст открещивается от облаков, как открещивался когда-то от земли. Сначала он открещивался от черта, теперь открещивается от бога. Какая «польза» от бога? Бог — это только «мечты». Великое Здесь — вот кумир Фауста.
И тогда Забота ослепляет его. Она освобождает Фауста от последнего обмана, который преподносит ему Мефистофель.
Того, как ему роют могилу, Фауст уже не видит. Он еще командует, он зовет слуг, приказывает им нести лопаты, заступы, вести машины. Он оглушает себя их шумом и поет хвалы действию.
Но это — поражение Фауста-материалиста. Это поражение великого Здесь, ибо здесь творится вовсе не то, что воображает Фауст. Это только одно его воображение, та же «мечта», которую он минуту назад обличал. Это — звук пустой.
Ослепление Фауста достигает в этот миг конечной черты. Он не только не видит того, что стоит за его делом (черта), но и самого дела. Он уже нелеп, ли́шен, он дошел до конца.
И все-таки в самом конце раздаётся тревожный голос сомнения.
Все-таки Фауст еще не согласен поставить точку. Все-таки он оговаривается и не произносит: «Остановись, мгновенье!»
Это Забота сделала, это ее голос заговорил в Фаусте. Это «голос свыше» подсказал ему.
Потому что это был его собственный голос. Это «старый» Фауст проснулся в «новом» Фаусте, зто «вторая» его часть воскресла.
Так человек не поддается материальности. Так Дело не может до конца ослепить его. Так в душе Фауста остается сомнение, которое поднимает эту душу вверх.
Там, наверху, соединяются старый бог и бог новый. Там Фауст соединяется с Маргаритой [3]. И туда, к ним, взывает и тянется пораженный черт.
Может, это «низшее» в человеке взывает к его «высшему»? Может, это сам человек возвышается до человека? Да, зто так.
Итог трагедии Гёте — итог всех итогов. Это итог всей жизни Фауста, прожитой им самим. Гёте поставил в этой трагедии точку, достигнув конца пути земного. Он писал ее всю жизнь, он жил в ней, как жил в нем Фауст.
Он начал «Фауста» молодым и закончил его стариком. Он, как и Фауст, испытал все. Он был царедворцем, поэтом, ученым. Он любил женщин и расставался с ними. Ничто не обошло его в этом мире. Он прожил долгую жизнь — столько, сколько может прожить человек, — и он мог писать обо всем человеке.