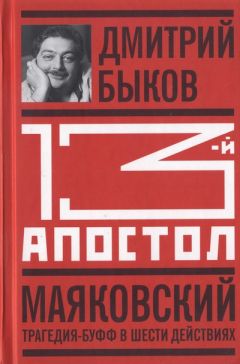Одинаково — и почти одновременно — оформляются клятвы:
Подъемля торжественно стих строкоперстый,
клянусь — люблю
неизменно и верно!
(1922)
Присягну
перед целым миром:
гадок чай
у частных фирм.
(1923)
С философией лирические герои поэм и реклам разделываются с одинаковой легкостью:
Я знаю: гвоздь у меня в сапоге
Кошмарней, чем фантазия у Гете.
Разрешаются все
мировые вопросы, —
лучшее в жизни —
«Посольские»
папиросы.
Иногда получаются замечательные контаминации:
Вам ли понять,
почему
я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду грядущих лет?
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт!
Хватайтесь
за этот
спасательный
круг!
Доброкачественно,
дешево,
из первых рук.
Или уж вовсе на грани кощунства:
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал —
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Глядит глазасто
верст за сто:
всё тут,
и земля и труд.
Летит перекличка:
да здравствует смычка!
Или еще, на темы пресловутого быта — который он ненавидел и который вынужден был рекламировать:
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
Что делать?..
Положение отчаянное…
Беги
покупай печенье Чайное.
И, как два примера абсолютной тотальности:
Я над всем, что сделано, ставлю nihill
Все, что требует
желудок,
тело
или ум, —
все
человеку
предоставляет ГУМ.
ГУМ предоставляет всё. Над остальным ставим nihil.
Маяковский — поэт вывесок и поэт-вывеска. И это очень эффектно в обоих случаях.
2
Правда, он тут не первый: первый, как почти во всем, Блок. «Чуть золотится крендель булочной» — из этого (1906) выросли все вывески Маяковского. Но как город начала века немыслим без электрической вывески — чуть ли не главной приметы урбанистического пейзажа у нас и точно главной в Америке, — так и лирика начала века уже немыслима без рекламы и саморекламы. Вся жизнь его была такой город с вывесками; но будем помнить, что это город двадцатых, в нем есть порт, в порту пароходы (и порт — любимое его место, он в каждом приморском городе подолгу там гуляет), и все городские страсти подсвечены дешевой и неотразимой экзотикой. Маяковский — современник Грина, Вертинского с его банальным, бананово-лимонным Сингапуром, но что же сделаешь, и банальность эта, сдобренная иронией, все равно обаятельна; Маяковский — московский двойник Гумилева, по-своему развивающий две главные его темы — неутомимую экспансию героя-завоевателя и полную его беспомощность перед женщиной, которую он завоевать не может. Отсюда ревность Лили к Ахматовой — и Ахматовой к Лиле — и странная взаимная приязнь Ахматовой и Маяковского.
Лично они общались очень мало, хотя в «Бродячей собаке» им трудно было не встречаться; Ахматова оставила крайне скупые устные воспоминания и одно, не самое удачное, стихотворение — «Маяковский в 1913 году». Когда у Ахматовой попросили воспоминания для скандального тома «Литнаследства», она, по воспоминаниям Лидии Чуковской, отказалась: «Я в сущности очень мало знала его — и только издали… Да и зачем мне бежать за его колесницей? У меня своя есть. Кроме того, ведь публично он меня всегда поносил, и мне не к лицу восхвалять его». Насчет «поносил» — неправда: будучи влюблен, он всегда напевал ее стихи, как ревниво свидетельствует все та же Лиля, — особенно часто «Мальчик сказал мне „Как это больно“, и мальчика очень жаль». По-настоящему важная встреча была одна: «Помню, как-то шла по Морской. Шла и думала: вот сейчас встречу Маяковского. И вдруг вижу — действительно идет Маяковский. Он поздоровался и говорит: „А я как раз думал о Вас и знал, что Вас встречу“. Пошли вместе; о чем-то говорили. Он читал мне свои стихи, кажется „А вы могли бы?“» (так этот устный рассказ воспроизвела Н. Реформатская). Как свидетельствует Цветаева (впрочем, когда она говорит о людях хорошее, верить ей трудно, ибо она приукрашивала всех), Маяковский осенью 1921 года «с видом убитого быка» расспрашивал всех, действительно ли Ахматова покончила с собой после казни Гумилева. «Стихи Ахматовой не хрупки, они монолитны и выдержат давление любого голоса», — говорил он Симону Чиковани в Тбилиси уже в двадцать шестом.
Их взаимные влияния подробно исследовались много раз — в статье С. Коваленко, «Ахматова и Маяковский», в книге А. Субботина «Маяковский сквозь призму жанра» (где, в частности, впервые отмечено сходство «Про это» и «Поэмы без героя» — главным образом в появлении темы мальчика-самоубийцы, о чем мы еще скажем). Нас здесь интересует иное — общая стратегия. Чуковский — вызвав, кстати, насмешку Маяковского и огорчение Ахматовой, — с исключительной проницательностью сопоставил их в известной лекции 1921 года «Две России» (впоследствии он переделал ее в статью «Ахматова и Маяковский»). Михаил Кузмин отмечал в книге «Условности» правомочность такого сопоставления: «Ибо поэты, при всем их различии, стоят на распутии. Или популярность, или дальнейшее творчество». Но дело было, конечно, не в популярности — хотя и в ней тоже. Переформулируем: или творчество, или жизнетворчество. Потому что литература после 1923 года стала по многим причинам невозможна: исчез читатель, не стало места лирическому герою, ибо поэт перестал быть фигурой неприкосновенной и знаковой, и вдобавок его на каждом шагу унижали. Да и возможна ли сама лирика после революции, Гражданской войны и в особенности после нэпа, когда все это оказалось напрасно и утопия не состоялась? Поэзия еще может выжить в условиях террора, но после краха утопии — вряд ли; и в 1923 году русская лирика либо прекратилась, либо стала искать иные формы. Маяковский ушел в газету, а по сути — в жизнетворчество, только творил не свою жизнь, а общую; Ахматова скрылась, замолчала. При всей противоположности их стратегий в двадцатые невозможно отрицать, что эстрадность — их общая черта; что собственную жизнь они сделали главным своим сюжетом; что «недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией», — жестокие ахматовские слова о «Втором рождении» Пастернака, — к Маяковскому никак не применимы: он-то весь нараспашку, он и постель вынес на эстраду, и застрелился так, чтобы об этом знали все. «Всем» — адресовано предсмертное письмо. Все — на сцене, собственная жизнь — факт искусства, лирика — интимный дневник, барьеры сняты. Все трагические девушки говорят о себе словами Ахматовой, все юноши признаются в любви словами Маяковского, и стратегия «первые будут последними» — утверждение собственного изгойства и собственной царственности — их тоже роднит больше, нежели любых других современников.
(Любопытно, что эта царственность заставляет обоих оглядываться на русских царей: Маяковский пишет «Императора» — и упоминает, как видел его в Москве, — а Ахматова вспоминает проезд Александра III по Царскому Селу: «А на розвальнях правил великан-кирасир»; она при сем не присутствовала, но легенду запомнила.)
Ахматова — единственная из всех — сумела написать «Реквием» в тридцатые, тогда, когда все происходило: почему? Потому что позиция униженности, поражения, признание в том, что тебя растоптали, — это было у нее всегда, она никогда не стеснялась назвать себя разлюбленной, не стеснялась буквально визжать в стихах от ревности, признаваться даже в похоти («А бешеная кровь меня к тебе вела сужденной всем единственной дорогой»). Потому и смогла сказать — «Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача»: эти две строчки стоят всей вольной русской поэзии XX века. И Маяковский признавался — и в похоти («Мария! Дай!» — Чуковский утверждал, что эту формулу вместо литературного «отдайся» подсказал ему он), и в проигрыше, и в опустошенности: кто бы так — из мужчин! — о себе сказал — «Любит? Не любит? Я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши». И во всем этом — не только предельная искренность на грани эксгибиционизма, но еще и эстрада, вывеска; страшно сказать — реклама. И у Ахматовой вывеска — тоже существеннейшая часть городского пейзажа: