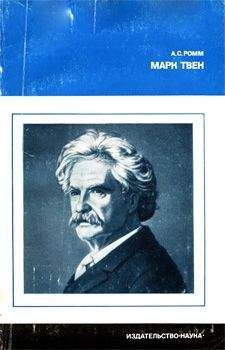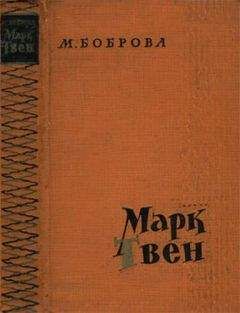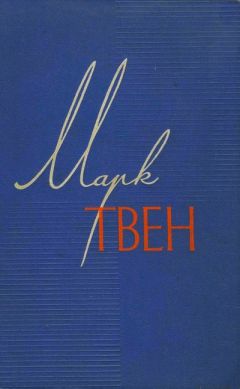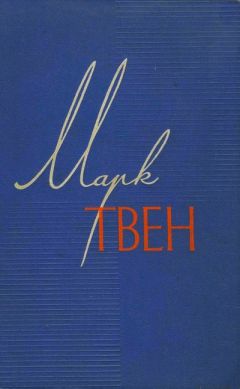Так путь исканий и сомнений закономерно приводил писателя к встрече с историей, и она, вполне естественно, поворачивалась к нему своей государственно-правовой и одновременно нравственно-этической стороной.
Под таким углом зрения и возрождался в его творчестве один из самых характерных и устойчивых тематических мотивов — тема европейского средневековья.
Интерес к этой эпохе, которая ему — наследнику традиций Просвещения — представлялась «концентратом» всех трагических заблуждений и ошибок человечества, «моральной и духовной полуночью»[60] истории, кроме указанных причин стимулировался и другими, не менее жизненно важными.
В 1914–1915 гг. В. И. Ленин отмечал, что экономические пережитки рабства «ничем не отличаются от таковых же пережитков феодализма, а в бывшем рабовладельческом юге Соединенных Штатов эти пережитки… очень сильны до сих пор»[61].
Не случайно в сознании Твена представление о средневековье всегда связывалось с представлением о рабстве. (Один из персонажей его романа «Принц и нищий» называет себя «английским рабом».)
Именно на этой линии он и устанавливал «родство» между Европой и Америкой. Автор «Простаков», столь резко противопоставлявший Новый Свет Старому, на данном этапе своей творческой эволюции уже находил точки их внутреннего соприкосновения. Так, в своем памфлете «Плимутский камень и отцы-пилигримы» (1881), предпринимая экскурс в область генеалогии своих соотечественников, Твен ведет их родословную от европейских авантюристов, насильников, работорговцев всех мастей. Благочестивые подвиги «отцов-пилигримов» — этих первообитателей «американского Эдема» — в интерпретации писателя оказываются многочисленными актами разбоя: истребления индейцев, притеснения негров, сожжения «салемских ведьм» и т. д. Пресловутая «американская робинзонада» оказывалась мифом, реальным содержанием которого являлось наступление на жизненные права народов. Это обличительное задание ни в малой мере не означало стремления к реабилитации Европы. Ненависть Твена к ее «средневековым» установлениям не убывала, а скорее возрастала по мере того, как он обнаруживал черты сходства между американским и европейским образом жизни.
Уже в своем первом произведении — «Простаки за границей» — великий американский писатель в непочтительно-дерзком тоне говорил об исторических «святынях» Европы. Этот разговор в той же тональности он продолжил и в своей новой книге «путешествий» — «Пешком по Европе» (1880), по форме построения, равно как и по характеру содержания, во многом сходной с «Простаками». Известная новизна этого созданного позднее произведения по сравнению с первой книгой заключалась, пожалуй, лишь в усилении некоторых акцентов. На сей раз Твена более всего интересует нравственно-бытовая сторона жизни Европы, этого мира, находящегося во власти суеверий, условностей и традиций, засилье которых писатель рассматривает как естественное следствие господства отношений сословной иерархии. Не случайно символической «заставкой» к его путевым впечатлениям служит известная легенда о бергенском палаче («Шельм фон Берген»), возведенном королем в дворянский ранг в результате досадного недоразумения (на дворцовом маскараде палач, будучи неузнанным, протанцевал с королевой). Это уступка условности, по-видимому, должна была служить намеком на глубокую условность всей системы сословных различий и доселе господствующей в Старом Свете. Твен рассматривает эту систему как маску, за которой скрывается жестокое лицо палача. Весь исторический процесс в глазах писателя является своего рода маскарадом, и эта метафора (в которой уже содержится ключ к «Принцу и нищему») во многом проясняет отношение Твена к Вальтеру Скотту и его американским подражателям. Он не прощает им участия в зловещем «маскараде истории», их попыток его эстетизации. Полемика с ними кроме общей задачи дискредитации романтизма преследовала цель развенчания целой философии истории не только в ее литературном, но и в прямом жизненном выражении. Полушутя, — полусерьезно Твен утверждал, что автор «Айвенго» несет ответственность за «средневековые» формы жизни рабовладельческого Юга. Разве не он повинен в том, что «перед войной каждый джентльмен на Юге был майором или полковником, или генералом, или судьей», и разве не «он заставил этих джентльменов ценить эти поддельные украшения, так как он создал не только ранги и сословия, но и гордость ими»? «Преступление» Вальтера Скотта перед историей и человечеством, по мнению Твена, состояло в том, что он «влюбил весь мир в сны и видения, в разрушительные и низкие формы религии, в устарелые и унизительные системы управления, в глупость и пустоту, мнимое величие, мнимую полезность и мнимое рыцарство безмозглого и ничтожного, давно исчезнувшего века. Он причинил тем самым неизмеримое зло, более реальное и длительное, чем любой другой человек, когда-либо писавший». Реально, однако, все эти обвинения предъявлялись не столько Скотту, сколько его многочисленным эпигонам как американского, так и европейского происхождения. Культ средневековья был не уступкой литературной традиции, а одной из характерных особенностей литературного движения, известного под именем неоромантизма, и его исповедовали не только писатели Юга, но и неизмеримо превосходившие их по значению и влиянию английские эстеты. Под их воздействием создавались и некоторые детские книги. Признанным мастером детской исторической книги в эту эпоху становится Шарлотта Юнг. Ее произведения («Маленький герцог», «Рассказы тети Шарлотты об английской истории», «Принц и паж») пользовались популярностью как в самой Англии, так и за ее пределами и имели в Америке широкий круг читателей, в состав которого входили не только дети, но и взрослые. Одна из книг Юнг «Принц и паж» — трогательная история юного пажа, ценою собственной жизни спасающего своего господина от гибели, подсказала Твену замысел его замечательного романа «Принц и нищий». В романе Юнг есть отдельные фабульные ситуации, имеющие отдаленное сходство с книгой Твена. Одним из центральных сюжетных мотивов «Принца и пажа» является история герцога, вынужденного выдавать себя за нищего.
Последняя глава романа Юнг носит название «Принц и нищий» («The Prince and the Beggar»).
Однако хотя произведению Юнг свойствен некоторый оттенок романтического бунтарства, проявляющегося в стремлении противопоставить «свободу» нищенского существования «раззолоченной неволе» королей, в целом ее концепция средневековья глубоко чужда Марку Твену.
Как и многие ее литературные современники, эта писательница заражена культом средневековья. Ей не чуждо эстетское любование мнимой красотой этого исчезнувшего мира. Для нее, как и для многочисленных представителей «взрослой» литературы, мир средневековья был полон романтического очарования. В восприятии Юнг он неотделим от его традиционных атрибутов: от благородных подвигов и высоких чувств, бархатных плащей, развевающихся перьев, эффектных жестов и мелодраматических ситуаций.
В 70-80-х годах XIX в. книги Юнг вызвали немалое количество подражаний.
Историческая сказка Твена «Принц и нищий» (1882) явилась гневным откликом на эту литературную «моду».
Та «философия истории», которую Твен противопоставил романтически идеализированной концепции средневековья, была последовательным выражением его демократических убеждений и прямо восходила к своим просветительским первоистокам. Направляющей силой истории, ее естественным руководителем для него, как и для «отцов» американской демократии, был разум. Подтверждение этой идеи он находил и у некоторых современных авторов: в «Истории европейской морали от Августа до Карла Великого» (1869) Уильяма Леки, а также в трудах известного викторианского историка Маколея.
«Между Твеном и Просвещением, — указывает американский литературовед Роджер Саломон, — стояли историки-виги, для которых понятие «история» означало прежде всего рост знаний и политических свобод»[62]. Хотя историки эти менее всего могли претендовать на звание бунтарей и оппозиционеров, они до известной степени годились в союзники Твену. Разработанная ими теория прогресса как движения по восходящей линии совпадала с его собственной и в принципе создавала возможности для установления особой шкалы исторических ценностей, критерием измерения которых служило народное благо.
Но симпатии Твена к упомянутым мыслителям (особенно к Маколею, которого он высоко ценил) имели и другие причины. Сам принцип их подхода к истории в восприятии писателя идентифицировался с его собственным. Маколей, в частности, вполне способен был представиться Твену антиподом Скотта даже в литературном отношении. В отличие от Скотта, он изображал историю в ее повседневном облике, как простое человеческое дело. Его интересовали не столько государственные перевороты и широкие общественные движения, сколько будничная хроника жизни общества. Декларируемое им программное задание, согласно которому «обязанность историка заключалась в переводе на язык правды абстрактных понятий, узурпированных художественной литературой»[63], несомненно созвучно убеждениям самого Марка Твена. Писатель по-своему выражал сходную мысль, когда утверждал, что лучший способ воспроизведения исторического прошлого состоит в том, чтобы изображать «мелочные явления истории в деяниях людей всех сословий и рангов». Этот угол зрения, точно соответствовавший и демократическим принципам Твена и особенностям его художественного метода, помог ему осуществить демократизацию и деромантизацию истории и из поэтического повествования о королях и героях превратить ее в трагическую летопись народных страданий.