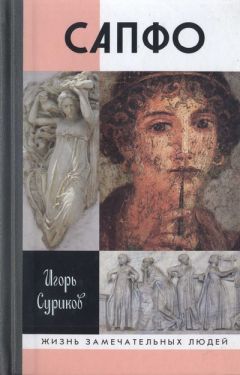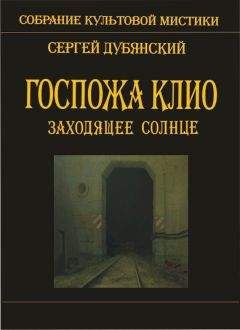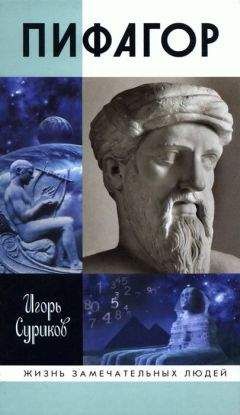Но вернемся к архаическим греческим лирикам. Выше уже упоминался еще один колоритный представитель их когорты — Феогнид Мегарский. Он был современником Солона, тоже творил в первой половине VI века до н. э. (такая его датировка всё же ближе к истине, чем любые более поздние). Жизнь этого поэта и политика сложилась очень нелегко.
Знатный аристократ, он оказался свидетелем демократического переворота в родных Мегарах. Власть победившей бедноты Феогнида никоим образом не устраивала, и он без обиняков об этом заявлял. Вот замечательная (хотя и очень тенденциозная) элегия, в которой возникает образ, ставший потом очень популярным в мировой литературе, — государство как корабль:
Знаю, ради чего понеслись мы в открытое море,
В черную канули ночь, крылья ветрил опустив.
Волны с обеих сторон захлестывают, но отчерпать
Воду они не хотят. Право, спастись нелегко!
Этого им еще мало. Они отстранили от дела
Доброго кормчего, тот править умел кораблем;
Силой деньги берут, загублен всякий порядок,
Больше теперь ни в чем равного нет дележа,
Грузчики встали у власти, негодные выше достойных.
Очень боюсь, что корабль ринут в пучину валы.
Вот какую загадку я гражданам задал достойным,
Может и низкий понять, если достанет ума.
(Феогнид. Элегии. I. 671 слл.)
Правящий демос, естественно, не мог стерпеть столь откровенной критики, и Феогнид был отправлен в изгнание. Долгие годы провел он на чужбине и получил возможность возвратиться на родину лишь под старость, когда мегарская демократия была свергнута. В подобных условиях неудивительно, что неприязнь поэта к народу в конце концов приобрела просто-таки экстремистский характер:
Крепкой пятою топчи пустодушный народ, беспощадно
Острою палкой коли, тяжким ярмом придави!
(Феогнид. Элегии. I. 847 сл.)
Можно объяснить и чернейший пессимизм, характерный для стихов Феогнида:
Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать.
(Феогнид. Элегии. I. 425 слл.)
Похоже, что дальше по стезе пессимистических настроений двигаться уж и некуда. Так, может быть, пессимизм Феогнида — это всего лишь раздраженные резиньяции защитника уходящих ценностей, озлобленного аристократа? Отнюдь нет, его процитированные слова о том, что лучше всего вообще не родиться, а уж если родился — то как можно скорее умереть, отражают мироощущение достаточно широких кругов. Возьмем уже знакомого нам Гесиода. Вот уж ни в малейшей мере не аристократ: зажиточный крестьянин из Беотии, посвящавший поэтическому творчеству досуги между своими трудами.
Однако взгляды этого представителя древнегреческой литературы не менее пессимистичны. Он изображает всю историю человечества как последовательность сменяющих друг друга и постоянно ухудшающихся поколений или «веков»: золотого, серебряного, медного… Наконец наступает «железный век» — тяжелое, мрачное время жизни самого поэта. Но Гесиод и в будущее смотрит без малейшего признака надежды. Дальше будет еще хуже:
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным.
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.
(Гесиод. Труды и дни. 182 слл.)
Справедливости ради следует сказать, что подчеркнуто пессимистической позиции Гесиода и Феогнида можно противопоставить, например, реалистическое жизнелюбие Архилоха, о котором говорилось выше. Но в целом идея исторического прогресса, движения «от худшего к лучшему», от низшего состояния к высшему упорно не приживалась в Греции.
Возвращаясь к Феогниду, отметим еще, что сочинения этого поэта отличаются афористичностью, четкостью и ясностью мысли. Вот одно его совсем крохотное стихотворение, которое нам очень нравится:
Трудно разумному долгий вести разговор с дураками,
Но и всё время молчать — сверх человеческих сил.
(Феогнид. Элегии. I. 625 сл.)
Первая строчка двустишия кажется несколько тривиальной, а вот затем следует достаточно неожиданная сентенция. Проницательный Феогнид порой поднимается даже до критики богов — за то, что они не блюдут справедливость, позволяют злодеям оставаться в безнаказанности, а невиновным людям страдать:
Кто ужасные вещи творил, не ведая в сердце
Страха, богов позабыв, кары ничуть не страшась, —
Сам и платится пусть за свои злодеянья, и после
Пусть неразумье отца детям не будет во вред.
Дети бесчестных отцов, но честные в мыслях и в деле,
Те, что боятся всегда гнева, Кронид (Зевс. — И. С.), твоего,
Те, что выше всего справедливость ценили сограждан,
Пусть за поступки отцов кары уже не несут.
Это да будет угодно блаженным богам. А покамест —
Грешник всегда невредим, зло постигает других.
(Феогнид. Элегии. I. 733 слл.)
Завершая разговор о древнегреческих элегистах, нельзя хотя бы вкратце не остановиться на Симониде Кеосском. Хотя он и жил несколько позже (в конце VI — начале V века до н. э.), но принадлежал к той же традиции. Симонид, впрочем, отличается тем, что немалое количество своих стихотворных произведений посвятил историческим сюжетам. Среди его поэм — несохранившиеся «Царствование Камбиса и Дария», «Навмахия Ксеркса» (тут речь идет о морском сражении при Артемисии 480 года до н. э.), «Навмахия при Саламине».
И всё же имя Симонида (который был, помимо своих остальных заслуг, еще и изобретателем мнемотехники) до последнего времени достаточно редко фигурировало в исследовательской литературе в связи с генезисом античной историографии. Однако относительно недавно (в 1992 году) были опубликованы такие папирусные фрагменты его произведений, которые произвели просто ошеломляющее впечатление. Речь идет в первую очередь об отрывках из поэмы о Платейской битве 479 года до н. э. (к сожалению, оригинальное название не сохранилось).
В начале самого крупного отрывка речь идет о делах мифологических, о событиях Троянской войны: упоминаются гибель Ахилла, взятие Илиона, воздается честь Гомеру, благодаря которому эти деяния стали достоянием потомков. А затем автор внезапно переходит к Греко-персидским войнам и описывает выступление к Платеям спартанского войска во главе с командующим Павсанием.
Многоименная Муза, тебя призываю на помощь,
Если любезна тебе смертного мужа мольба.
Лад заведи сладкозвучный, чарующий, песни ты нашей,
Чтоб вспоминали всегда подвиг отважных мужей,
Ибо от Спарты родной, от Эллады ярмо отвратили
Горького рабского дня — больше он нам не грозит.
Да не забудется слава, что гордо подъемлется к небу,
Доблесть могучих мужей смерти навек избежит!
Вот уж, покинув теченье Еврота и пажити Спарты,
В спутники взяли себе Зевса красавцев сынов,
Дерзко коней укрощавших, и мощного духом Атрида,
Отчего града вожди, лучшие в бранных делах[91].
Вел же их сын благородный божественного Клеомброта[92];
…имя Павсаний ему.
Скоро достигли на Истме земли достославной Коринфа,
Края, в котором царил Тантала отпрыск — Пелоп.
Вот миновали Мегары, город древнего Ниса,
Там и другие сошлись, кто проживает окрест.
В знаменья божьи уверовав, вместе они поспешили
В землю, любезную всем, милый сердцам Элевсин…
(Симонид. фр. 11 West)
Итак, здесь повествуется о том, как спартанцы — поэт награждает их пышнейшими эпитетами — начинают поход, как они продвигаются от города к городу. Причем продвижение это происходит в весьма насыщенном «сакральном ландшафте»[93], постоянно упоминаются чтимые герои. Аналогичная черта, кстати, впоследствии прослеживается и у «отца истории» Геродота.