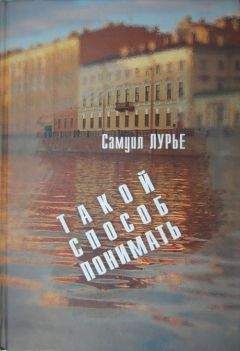Все это — да еще ход поединка, в котором Швабрин оказывается искуснее, а Гринев — «сильнее и смелее», должно как будто убедить нас. Наверное, и Пугачеву Швабрин предался из трусости, спасая свою жизнь. О Шванвиче Пушкин так и пишет, что он «имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием» («Замечания о бунте», черновая редакция).
Но со Швабриным не так просто. Что бы ни говорил о нем Гринев, ход событий показывает, что Швабрин предложил Пугачеву свои услуги еще до появления самозванца под стенами Белогорской. Всего вероятнее — снесся с ним через урядника Максимыча. Иначе как бы он мог при въезде победителя «явиться в кругу мятежных старшин»? Значит, он решился на измену и сговаривался с казаками, когда участь крепости не была еще решена и сам Швабрин не видел «покамест ничего важного» в слухах о самозванце. Стало быть, он рисковал головою. Другое дело, что неясна его роль в падении крепости и что пощаду у Пугачева он выговорил только себе (скорее всего — полагал, как и Гринев, что Марья Ивановна успеет уехать).
Так что Швабрин — не Шванвич. Вряд ли он трус. На следствии он держится стойко. Скорее уж применимы к нему слова из «Пропущенной главы» романа: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».
А Гринев? Гринев, напротив, добр и благороден. Он являет Швабрину завидный и мучительный пример: преследуя ту же цель, он совершает такие же проступки, но Швабрин проигрывает, а Гринев побеждает, и притом побеждает без страха и упрека, не жертвуя честью.
Ему для этого только и нужно положиться на провидение, то есть на волю автора. Гринев не может позволить себе просить милости у самозванца, стать перед ним на колени. Автор выручит его и обелит — и устроит так, что за Гринева все сделают другие: Савельич, например, или Марья Ивановна, или тот же Швабрин.
И вот наступает решительная минута. Петр Андреевич связанный стоит перед Пугачевым. Сейчас Пугачев предложит ему принести присягу, а Гринев, по примеру Ивана Кузмича и Ивана Игнатьича, бесстрашно скажет оскорбительные, насмешливые слова: «вор и самозванец». И его тоже вздернут на виселицу.
«Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей».
Теперь, когда читатель убедился, что Гринев и не думает спасаться, автору необходимо его спасти. Для этого есть только одно средство: не дать Пугачеву заговорить с ним.
В истории похожие случаи были.
«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. „Зачем вы шли на меня, на вашего государя?“ — спросил победитель. — „Ты нам не государь, — отвечали пленники: — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец“. Они тут же были повешены. — Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав ему уже ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю. И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки» («История Пугачева», глава четвертая).
Казалось бы, чего проще? Пушкин мог перенести в роман этот исторический эпизод целиком, сохранив его логику. Пускай Пугачев, устав от оскорблений, молча махнет платком, и Гринева потащат к виселице, а там уже вмешается Савельич.
Но автору романа нужно, чтобы страшная минута длилась, испытывая-удостоверяя решимость Гринева Кроме того, и Швабрин должен сыграть свою роль. А роль его, по замыслу Пушкина, состоит в том, чтобы, несмотря на все усилия, не достигать своих целей и получать результат, противоположный намерениям. Это трагикомическая роль: Судьба смеется над Швабриным. Ранив Гринева на поединке, он только ускоряет его сближение с Марьей Ивановной. А теперь, когда Гриневу осталось жить не долее минуты и надо лишь дождаться, пока он выкрикнет роковую фразу и закачается на веревке, Швабрин спешит сократить и этот срок, пускается на ненужную низость — и этим, к своему отчаянию, спасает ненавистного врага.
«Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. „Вешать его<“, — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня».
Вот и все. Герой по-прежнему от гибели на волоске, но минута, когда он сам мог решить свою участь, оскорбив Пугачева, уже прошла. Теперь можно выпускать Савельича и прибегать к приему узнавания, подключив к действию счастливое совпадение случайностей: прошлогоднюю метель, дорожную встречу, заячий тулупчик…
И сразу же наступает новое испытание. Но тут все обходится легче. Гринев по-прежнему тверд: он ни за что не поцелует Пугачеву руку. Он «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». Но вслух он этого не говорит, потому что разбит и потрясен. Молчаливая неподвижность Гринева сохраняет ему честь — его даже не остригли в кружок, как Башарина, — и спасает ему жизнь, потому что дает Пугачеву возможность проявить великодушие.
Новая встреча Гринева с Пугачевым — троекратное искушение.
Первое — самое грозное.
«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.
Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа».
Легко представить себе, что в подобном положении находился Пушкин, когда в сентябре 1826 года фельдъегерь доставил его из Михайловского прямо во дворец к новому императору Николаю, а тот спрашивал, глядя в глаза: «Чью сторону ты, Пушкин, взял бы, если бы оказался в Петербурге 14 декабря прошлого года?»
Тогда, десять лет назад, Пушкин сумел ответить прямо и не озлобить своего допросчика.
Возможно, он воспользовался приемом, который теперь применяет Гринев.
Вопрос, на который вынужден отвечать Петр Андреевич, — неискренний до бессмыслицы. Пугачев и сам прекрасно знает, что никакой он не государь. И понимает, что у Гринева на этот счет нет ни тени сомнения. Только что была неприятная сцена, в которой Пугачев так ненатурально, с такой комической важностью изображал владетельную особу, что Гринев «не мог не усмехнуться…».
Пугачев разгневан. Провести мальчишку не удалось. Теперь он пробует сломать Гринева. Его вопрос — замаскированная угроза: солги или умри[9].
Но Петр Андреевич отчаянным усилием ускользает от этого выбора. Он делает вид, что не заметил угрозы и понял вопрос Пугачева буквально: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».
На неискренний вопрос он отвечает искренне. Пропустив мимо ушей приглашение солгать, высказывает уверенность, что ложь проницательному его собеседнику неприятна.
И Пугачеву неловко настаивать. Все же он пытается еще раз внушить Гриневу, что ждет от него политического высказывания:
«Кто же я таков, по твоему разумению?»[10]
Но Гринев опять принимает вопрос буквально и говорит.
«Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».
Это очень далеко от того, чтобы «признать бродягу государем», однако и не совсем то же, что «назвать его в глаза обманщиком».
Из области условных определений Гринев уклоняется в реальность. Здесь не площадь, зрителей нет. И нет ни офицера правительственных войск, ни бунтовщика. Просто старые знакомые в мирных тонах разговаривают о жизни. Пугачев уже очнулся от гнева и фальши. Сбитый с первой позиции, он отступает и ставит вопрос иначе, по-деловому, переходя от угрозы к посулам. Гриневу предлагается второе искушение.
«Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья.[11]
Как ты думаешь?»
Пугачев уговаривает, почти что просит.
«Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу».
Скажи он это в начале разговора — висеть бы ему на перекладине. Скажи он сейчас только это — разговор из житейского снова станет политическим. Но Гринев дает понять, что воспринимает предложение изменить присяге исключительно как выражение заинтересованности Пугачева в его судьбе, и добавляет: