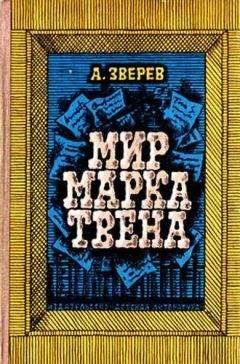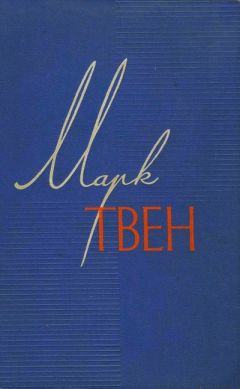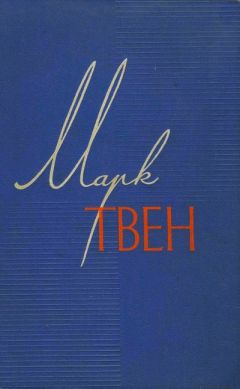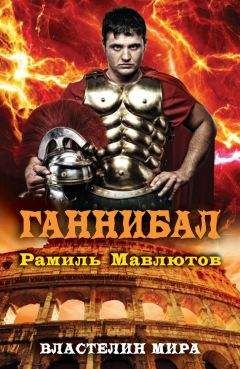Стояла зима 1894 года. Восемью годами раньше в день первого мая на Хаймаркетской площади Чикаго вызванные губернатором войска расстреляли рабочий митинг, вызвав мощную волну протестов, — так родился праздник пролетарской солидарности. А сейчас тоже следовало ожидать побоищ и расстрелов. Атмосфера накалилась. Твен с тревогой разворачивал газеты, сильно запаздывавшие к нему во Флоренцию.
Здесь Клеменсы жили уже давно. И не по собственной воле. Еще в 1891 году они покинули дом в Хартфорде, чтобы в него не вернуться. Дела семьи находились в тяжелом состоянии. Никто бы не поверил, что прославленному писателю приходится настолько туго.
Всему виной была наборная машина, изобретенная неким Пейджем.
У Твена еще в юности пробудилась страсть к технике. Он горячо интересовался каждым новшеством: первым из литераторов установил у себя домашний телефон, первым начал печатать рукописи на машинке, а исправлять их авторучкой, первым испытал фонограф, на который диктовал письма. Пробовал кое-что придумывать сам — то железнодорожный тормоз, то вечный календарь, то приспособление для склейки конвертов. Разработал проект магистрали от Стамбула до Персидского залива. Убеждал своих богатых знакомых поддержать польского инженера Щепаника, предложившего схему прибора, отдаленно напоминающего современный телевизор.
Эти затеи обычно кончались ничем, причиняя умеренный убыток. С печатным станком получилось иначе. Твен в молодости провел у наборной кассы не один десяток часов и знал, до чего это выматывающий труд. Идея Пейджа увлекла его бесповоротно. Но машина — чудо механики, как ее называл Твен, — упорно не желала работать. Требовались усовершенствования, а они стоили огромных денег. Так продолжалось много лет. В итоге у Твена не осталось ни гроша. А станок за сотню долларов приобрел один музей. Типографии предпочли одновременно появившийся линотип.
К этой неудаче добавился новый удар. Рассорившись с издателями, Твен решил создать собственную фирму. И не выдержал конкуренции, хотя пользовался необыкновенной популярностью среди читателей. Фирма обанкротилась, просуществовав всего несколько лет. Твен поставил целью выплатить ее долги до последнего цента. Он был честный человек. А поэтому — плохой бизнесмен.
В Америке конца прошлого века большие деньги делались быстро. Только для этого нужно было раз и навсегда позабыть о порядочности и о снисхождении к сопернику. Америка сильно изменилась, в ней неуютно чувствовали себя люди, воспитанные на старомодных понятиях нравственной обязательности и добрососедства. Теперь настали другие времена.
Твен нашел для них удивительно емкое и точное определение: «позолоченный век». Бывают в истории эпохи, справедливо именуемые золотым веком, потому что в такие периоды особенно быстро и плодотворно развивается наука, или философия, или искусство. Страна переживает свой расцвет, и об этой поре еще долго вспоминают потомки. После Гражданской войны судьбы Америки переломились, и для нее словно бы вправду началось новое летосчисление. Кому-то — даже многим — казалось, что произошел долгожданный взлет, настало время процветания и счастья.
Но это была иллюзия. А в действительности век был не золотым. Именно «позолоченным».
Позолота способна скрыть любое убожество, любую нищету. Невнимательному наблюдателю тогдашней американской жизни открылась бы картина самого бурного прогресса. Как на дрожжах росли города, заводы, электростанции, стальные нити рельсов тянулись через недавнее безлюдье, огромные пароходы каждый день высаживали на морских пристанях тысячи иммигрантов из всех стран света.
Безвкусная роскошь особняков и поместий новоявленных богачей должна была наглядно убедить, что деловая хватка и напор обязательно вознаграждаются в этой стране, будто бы всем предоставляющей равные возможности — сумей только выиграть в бешеной гонке за миллионом.
Ну чем не золотой век! А чуть поодаль от дворцов лепились лачуги рабочих предместий и дети копошились в непролазной грязи среди отбросов. Статистика свидетельствовала: каждый четвертый житель Америки голодает, каждый шестой — недавний переселенец из Старого Света или из Китая, заведомо лишенный возможности подыскать сносную работу. Периодически разражались скандалы, в которых были замешаны самые достопочтенные американские граждане, на поверку оказывавшиеся взяточниками и мошенниками. Даже Генри Бичер — знаменитый проповедник, брат той самой Гарриет Бичер-Стоу, которая написала «Хижину дяди Тома», воспламенившую сердца либералов и противников рабства, — запятнал себя, погнавшись за бесчестными деньгами. Богач Гулд подкупил его, вручив кругленькую сумму за обещание рекламировать с кафедры и с газетной страницы акции Северной Тихоокеанской дороги.
Этого Гулда Твен особенно не выносил, считая олицетворением вульгарности и порочности «позолоченного века»: «Раньше люди всего лишь стремились к богатству, он же их научил простираться ниц перед богатством, боготворя миллион, словно идола». Все раздражало писателя в его родной стране, которую он переставал узнавать по мере того, как год от года стремительнее становились ритмы капиталистического «прогресса». И Твен стремился понять, когда же произошел тот сдвиг, после которого все так резко переменилось к худшему. После Гражданской войны? Или еще раньше?
А впрочем, не так уж существенно, когда именно это случилось. Так или иначе, ушла в прошлое эпоха, еще дорожившая твердыми моральными принципами и высокими устремлениями души. На смену ей явилось время ожесточения каждого против всех, циничности и поклонения успеху.
Позднее Твен скажет об этом времени еще резче: «Страна разложилась сверху донизу». Это — из «Автобиографии», 1906 год. Американским читателям пришлось долго дожидаться публикации твеновских записок о самом себе. Пройдет более полувека, прежде чем появится сравнительно полное издание книги, которой Твен, зная, что ее не напечатают при жизни, предпослал вступление, озаглавленное «Из могилы». А когда «Автобиография» все-таки увидит свет, выяснится, насколько проницательным был Твен в своих оценках окружавшей его действительности. Во времена его молодости, вспоминал Твен, «порядочность у нас в Соединенных Штатах не была редкостью». Но та пора давно миновала. Теперь же и среди конгрессменов не сыскать ни одного, который, приняв взятку, по крайней мере, сделал бы то, за что ее брал. Ничего не добиться, не выложив тысячи какому-нибудь чиновнику, зато с деньгами легко добиться чего угодно. На американских монетах выбит девиз «В господа веруем». Надо бы уточнить: «Веруем в республиканскую партию и в доллар. Прежде всего в доллар».
Эти крамольные мысли Твен тщательно скрывал — даже от Ливи и от дочерей, не любивших, когда «папа сердится». А он уже не мог сдерживать раздражение и гнев, каждое утро читая в газетах о баснословных барышах Рокфеллеров и гулдов, о забастовках и голодных бунтах дошедших до отчаяния людей, о самоубийствах разоренных, о линчеваниях, о предательствах, подделанных завещаниях, банкротствах, денежных авантюрах и ловких махинациях пройдох без стыда и совести.
Когда-то на Гавайских островах он любовался могучим вулканом, нависшим над опрятными улочками Гонолулу. Вулкан в ту пору был спокоен, и к нему устремлялись экскурсанты, добиравшиеся почти до кратера по крутым каменистым тропинкам. Но на много километров вокруг все было припорошено мягким серым пеплом — напоминание о недавней вспышке. И в недрах кратера подрагивало пламя. Активности можно было ожидать в любую минуту.
Марк Твен в последние двадцать лет своей жизни походил — так ему и самому казалось — на такой вот клокочущий вулкан, от которого все время исходит угроза взрыва. Время от времени происходили сильные толчки: он публиковал рассказы и памфлеты, непримиримостью заключенного в них обличения всевозможных язв и уродств американской жизни ужасавшие и Оливию Клеменс, и самых близких друзей, не говоря уже о широкой публике. В юмористе пробудился сатирик. А стародавние — еще времен «Тома Сойера» — мечты о «зеленой долине, залитой солнцем» отодвинулись куда-то очень далеко, уступив место злой иронии, замешенной на разочаровании и скепсисе.
Америка сделала все для того, чтобы приглушить силу этого яростного извержения. И тем не менее повсюду в читающем мире были слышны его раскаты.
Свое малопочтенное имя «позолоченный век» получил от заглавия романа, написанного Твеном совместно с литератором Чарлзом Уорнером, его соседом по Хартфорду, и опубликованного еще в 1874 году. Твен, надо сказать, не любил романы в строгом значении этого слова — с обязательной любовной интригой, борьбой за наследство, случайными происшествиями, двигающими вперед развитие сюжета, с провинциалами, приезжающими завоевывать столицы, и светскими дамами, скучающими на модных курортах. Он считал, что в литературе не следует изобретать персонажей, которые самому автору никогда не встречались, да и вообще незачем выдумывать — «это дело богов, а мы, смертные, способны только снимать более или менее точные копии».