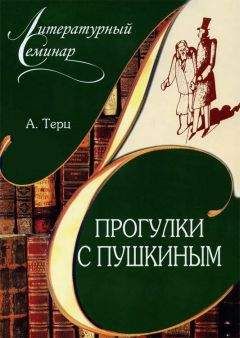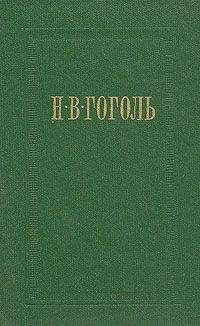Идея рока, однако, действующая с мановением молнии, лишена у него строгости и чистоты религиозной доктрины. Случай — вот пункт, ставящий эту идею в позицию безликой и зыбкой неопределённости, сохранившей тем не менее право вершить суд над нами. Случай на службе рока прячет его под покров спорадических совпадений, которые, хотя и случаются с подозрительной точностью, достаточно мелки и капризны, чтобы, не прибегая к метафизике, сойти за безответственное стечение обстоятельств.
«— Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка! — заметил Германн».
Так в «Пиковой Даме» публика реагирует на информацию Томского из области сверхъестественного: то, что для одних потеряло реальность — «сказка», другими ещё допускается в скромном одеянии случая, колеблющегося на грани небывалого и вероятного. Случай и рубит судьбу под корень, и строит ей новый, научный базис. Случай — уступка чёрной магии со стороны точной механики, открывшей в мельтешении атомов происхождение вещей и под носом у растерянной церкви исхитрившейся объяснить миропорядок беспорядком, из которого, как в цилиндре факира, внезапным столкновением шариков, образовалась цивилизация, не нуждавшаяся в творце.
Под впечатлением этих известий, коловращением невидимых сил, человек попал в переплёт математики и хиромантии и немного затосковал.
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?..[7]
Бездомность, сиротство, потеря цели и назначения — при всём том слепая случайность, возведённая в закон, устраивала Пушкина. В ней просвещённый век сохранил до поры нетронутым милый сердцу поэта привкус тайны и каверзы. В ней было нечто от игры в карты, которые Пушкин любил. Случайность знаменовала свободу — рока, утратой логики обращённою в произвол, и растерзанной, как пропойца, человеческой необеспеченности. То была пустота, чреватая катастрофами, сулящая приключения, учащая жить на фуфу, рискуя и в риске соревнуясь с бьющими как попало, в орла и в решку, разрядами, прозревая в их вспышках единственный, никем не предусмотренный шанс выйти в люди, встретиться лицом к лицу с неизвестностью, ослепнуть, потребовать ответа, отметиться и, падая, знать, что ты не убит, а найден, взыскан перстом судьбы в вещественное поддержание случая, который уже не пустяк, но сигнал о встрече, о вечности — «бессмертья, может быть, залог».
…С воцарением свободы всё стало возможным. Даль кишела переменами, и каждый предмет норовил встать на попа, грозя в ту же минуту повернуть мировое развитие в ином, ещё не изведанном человечеством направлении. Размышления на тему: а что если б у Бонапарта не случился вовремя насморк? — входили в моду. Пушкин, кейфуя, раскладывал пасьянсы так называемого естественно-исторического процесса. Стоило вытянуть не ту даму, и вся картина непоправимо менялась. Его занимала эта лёгкая обратимость событий, дававшая пищу уму и стилю. Скача на пуантах фатума по плитам международного форума, история, казалось, была готова — для понта, на слабó — разыграть свои сцены сначала: всё по-новому, всё по-другому. У Пушкина руки чесались при виде таких вакансий в деле сюжетостроения. Всемирно-знаменитые мифы на глазах обрастали свежими, просящимися на бумагу фабулами. Любая вошь лезла в Наполеоны. Ещё немного, и Раскольников скажет: всё позволено! Всё шаталось. Всё балансировало на краю умопостигаемой пропасти: а что если бы?! Дух захватывало от непомерной гипотетичности бытия.
В заметках о «Графе Нулине» в 1830 г. он делится своими исследованиями:
«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая „Лукрецию“, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принуждён был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.
Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моём соседстве, в Новоржевском уезде.
Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».
У «Графа Нулина» в истории была и другая аналогия — выступление декабристов. Оно тоже имело шанс закончиться так или эдак. Но повесть содержала более глубокий урок, рекомендуя анекдот и пародию на пост философии, в универсальные орудия мысли и видения.
Нужно ли говорить, что Пушкин по меньшей мере наполовину пародиен? что в его произведениях свирепствует подмена, дергающая авторитетные тексты вкривь и вкось? Классическое сравнение поэта с эхом придумано Пушкиным правильно — не только в смысле их обоюдной отзывчивости. Откликаясь «на всякий звук», эхо нас передразнивает.
Пушкин не развивал и не продолжал, а дразнил традицию, то и дело оступаясь в пародию и с её помощью отступая в сторону от магистрального в истории литературы пути. Он шёл не вперёд, а вбок. Лишь впоследствии трудами школы и оперы его заворотили и вывели на столбовую дорогу. Сам-то он выбрал просёлочную[8].
Неудержимая страсть к пародированию подогревалась сознанием, что доколе всё в мире случайно — то и превратно, что от великого до смешного один шаг. В доказательство Пушкин шагал из «Илиады» в «Гавриилиаду», от Жуковского с Ариосто к «Руслану и Людмиле», от «Бедной Лизы» Карамзина к «Барышне-крестьянке», со своим же «Каменным Гостем» на бал у «Гробовщика». В итоге таких перешагиваний расшатывалась иерархия жанров и происходили обвалы и оползни, подобные «Евгению Онегину», из романа в стихах обрушившемуся в антироман — под стать «Тристраму Шенди» Стерна.
Начавшемуся распаду формы стоически противостоял анекдот. Случайность в нём выступала не в своей разрушительной, но в конструктивной, формообразующей функции, в виде стройного эпизода, исполненного достоинства, интересного самого по себе, сдерживающего низвержение ценностей на секунду вокруг востроглазой изюминки. «Нечаянный случай всех нас изумил», — говаривал Пушкин, любуясь умением анекдота сосредоточиться на остроумии жизни и приподнять к ней интерес — обнаружить в её загадках и казусах здравый смысл.
Анекдот хотя легковат, но твёрд и локален. Он пользуется точными жестами: вот и вдруг. В его чудачествах ненароком побеждает табель о рангах и вещи ударом шпаги восстанавливают имя и чин. Анекдот опять возвещает нам, что действительность разумна. Он возвращает престиж действительности. В нём случай встаёт с места и произносит тронную речь:
«— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать, или вы пропали. Я Дубровский.»
Анекдот — антипод пародии. Анекдот благороден. Он вносит соль в историю, опостылевшую после стольких пародий, и внушает нам вновь уверенность, что мир наше жилище. «В истории я люблю только анекдоты», — мог бы Пушкин повторить следом за Мериме, — «среди анекдотов же предпочитаю те, где, представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи».
Какое в этом всё-таки чувство спокойствия и рассудительной гармонии в доме, обжитости во вселенной, где все предметы стоят по своим полкам!.. Сошлёмся на анекдот, послуживший в «Пиковой Даме» эпиграфом — выдержанный в характере Пушкина, в духе Мериме:
«В эту ночь явилась мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник!“
Шведенборг».Какое всё-таки чувство уюта!..
В пристрастии к анекдоту Пушкин верен вкусам восемнадцатого века. Оттуда же он перенял старомодную элегантность в изложении занимательных притч, утолявших любопытство столетия ко всему феноменальному. Прочтите «Свет зримый в лицах» Ивана Хмельницкого и вы увидите, что Крокодил и даже Ураган или Снег принадлежали тогда к разряду анекдотических ситуаций.
Анекдот мельчит существенность и не терпит абстрактных понятий. Он описывает не человека, а родинку (зато родинку мадам Помпадур), не «Историю Пугачёвского бунта», а «Капитанскую дочку», где всё вертится на случае, на заячьем тулупчике. Но в анекдоте живёт почтительность к избранному лицу; ему чуждо буржуазное равенство в отношении к фактам; он питает слабость к особенному, странному, чрезвычайному и преподносит мелочь как знак посвящения в раритеты. В том-то и весь фокус, что жизнь и невесту Гринёву спасает не сила, не доблесть, не хитрость, не кошелек, а заячий тулупчик. Тот незабвенный тулупчик должен быть заячьим: только заячий тулупчик спасает. C'est la vie.
В превратностях фортуны Пушкин чувствовал себя как рыба в воде. Случайность его пришпоривала, горячила, молодила и возвращала к нашим баранам. Он был ей сродни. Чуть что, он лез на рожон, навстречу бедствиям. Беснуясь, он никогда, однако, не пробовал переспорить судьбу: его подмывало испытать её рукопожатье.