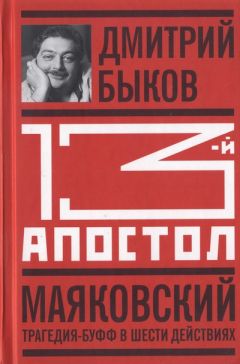Маяковский шепотом не умел.
В траурной процессии ехал и «рено» Маяковского, в нем везли Бриков. «Автомобиль покойника вели под уздцы», — хохотал впоследствии Демьян. В Донском крематории в почетный караул первыми встали приехавшая ранним утром Лиля, Осип Брик и Яков Агранов. Лиля многим казалась беременной из-за покроя нового заграничного платья. Говорили, что Полонской она запретила приходить на похороны: «Не омрачайте родным Володи прощание с ним. Ведь они вас считают причиной его смерти». Но даже если бы Полонская ослушалась, они с Яншиным не могли бы поспеть ни на панихиду, ни на кремацию: их весь день продержал у себя следователь Сырцов (как говорили, нарочно, чтобы помешать им проститься с Маяковским: вряд ли, впрочем, возможности Лили простирались так далеко).
Ровно в 7 часов 40 минут гроб по рельсам въехал в печь. Крематорий был экзотикой, посмотреть на сожжение пустили немногих избранных. Демьян Бедный рассказывал, что видел в глазок, как обуглилась голова. На обратном пути он в личном автомобиле с персональным шофером подвез Халатова к ГИЗу и крикнул ему вслед: «Береги теперь меня, я у тебя один остался!»
Стоило стреляться, чтобы Демьян считал себя единственным оставшимся советским поэтом!
Он же потом говорил: «Поэт был слабый… Я его недолюбливал, но если он хотел своим выстрелом сделать удовольствие мне, то он ошибся».
Вспоминали разное, выстраивали версии. Говорили, что на диспуте в Доме печати, где обсуждалась «Баня», бывший лефовец Михаил Левидов сказал Маяковскому: «Вы человек конченый» — и тот не возразил. Опубликованная в 1937 году, в первом полном собрании Маяковского стенограмма выступления в Доме печати никаких ответов на подобную реплику не содержит, а полная запись утрачена (или вовремя уничтожена, чтобы последний публичный диспут Маяковского не выглядел полным его поражением). В числе причин самоубийства — ссылаясь на предсмертную записку, где упомянут проклятый налог, — называли особенно тяготившие его визиты фининспектора; предполагали, что если бы налог снимали не раз в году, когда набегает большая сумма, а в несколько приемов, понемножечку, он бы, глядишь, и не застрелился.
Беспризорные пели на мотив «Товарищ, товарищ, болят мои раны»:
Товарищ правительство, корми мою маму,
корми мою Людочку-сестру,
В столе лежат две тыщи,
их фининспектор сыщет,
а я себе тихонечко помру.
Говорили, что если бы Маяковский это услышал — не стрелялся бы. Мне же, напротив, кажется, что он счел бы это успехом: слово, которое уходит в народ, — точное слово.
В середине июня Полонской позвонили из Кремля и предложили явиться для переговоров о наследстве. Предварительно она посоветовалась с Лилей.
— Я вам советую от всех прав отказаться, — сказала Лиля. — Вы ведь даже не были на похоронах.
Вероника хотела возмутиться — кто, как не Лиля, отсоветовал ей быть на похоронах? — но промолчала. Во ВЦИКе ее спросили: Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей, как вы на это смотрите?
— Вопрос этот сложный, я думала, вы мне поможете разобраться.
— Гм. Ну, может, хотите путевку куда-нибудь?
Полонская была так потрясена, что не нашла ответа. Ее вызывали еще пару раз, но так ни к чему и не пришли и дело с наследством замяли. Яншин год спустя ушел от нее к цыганке Ляле Черной.
3
Удивительно, что на смерть Маяковского не было написано почти ни одного хорошего стихотворения; поэтические реквиемы Пастернака («Не верили, считали: сплетни…») и Цветаевой («В башмаках, подкованных железом…») не составляют исключения.
Хотя — что тут удивительного? Все возможные стихи на смерть Маяковского двадцать лет подряд писал он сам — собственно, ничем другим не занимался, периодически только отвлекаясь на всякие «Окна РОСТА».
Да и не было уже в тридцатом году ни одного стиля, ни одной литературной манеры, в которой можно было бы написать поэтический реквием. Можно либо что-нибудь громыхающее на тему «Жизнь продолжается», либо романсовое, особенно ему ненавистное, — «Ни слова, о друг мой, ни вздоха». Но даже на фоне этого общего фальшивого тона стихотворение Ильи Сельвинского являет собой нечто исключительное.
Я был во главе отряда,
Который с ним враждовал,
И значит — глядеть на взорванный вал
Должно быть моей отрадой.
Я вел от края до края
Атаки на каждый холм:
Недаром последним его стихом
Была на меня эпиграмма.
И когда неприятельский вождь,
Как последней бурею — смертью ахает,
Я должен был бы сказать: «Ну что ж,
Труп врага хорошо пахнет».
<…>
Д’постойте… О чем бишь я… что ж это такое?
Маякоша… любимейший враг мой, а?
Неужели на черный титул «покойный»
Огневое «товарищ» сменил наш Маяк?
И стало в поэзии жутко просторно,
Точно вывезли широченный шкап.
Из-за какой-то размолвки вздорной?
Из-за неласкового ушка?
Что ж это, а? И ты как любой?
Как же так мир перечеркнули бровки,
Если ты,
Владимир
Маяковский,
Революции
первая
любовь…
Но я твое пробитое сердце
Прижму к своему с кровавой корой.
Я принимаю твое наследство,
Как принял бы Францию германский король.
Дальше он там обещает объединить, так сказать, их поэтические армии и пустить в общую битву за коммунизм. Господи помилуй, какой он тебе Маякоша?! Да, товарищи, сменил, сменил, так сказать, наш Маяк звание «товарищ» на титул «покойный»; нехорошо, товарищи! Боже мой, каким отсутствием такта, слуха, вкуса, каким самомнением надо было обладать, чтобы объявить себя наследником, к тому же победителем в ранге короля! Бог не Тимошка, видит немножко: Сельвинский, со всей своей одаренностью, с замечательной «Улялаевщиной» — единственным, вероятно, удачным советским эпосом, — оказался забыт еще при жизни и ныне со всеми своими «Пушторгами» и «Командармами» воспринимается как поэтический курьез, да еще предательство Пастернака ему припоминают («Когда толпа учителя распяла, пришли и вы забить свой первый гвоздь», — припечатал Михаил Левин). Посмертная месть Маяковского всем, кто решил, что теперь-то он уж точно не ответит, была ужасна. Есть у него и у мертвого кое-какие возможности…
Сельвинскому сразу стали намекать, что он перегнул палку («Мне сильно влетело от общественности, и, надо сказать, совершенно справедливо», — вспоминал он в 1963 году), — и на это он обиделся окончательно. 5 ноября 1930 года он опубликовал в «Литгазете» «Декларацию прав поэта», совершенно уже за гранью добра и зла:
Мне противна поза поэта,
Страдающего бронзовой болезнью
И вымучивающего поэтому
Свою биографическую лестницу.
Меня в ту пору, когда бродят усы,
Очередной импресарио
Не выводил на эстраду под уздцы
В роли дрессированного «зарева»…
<…>
А вы зовете: на горло песне!
Будь ассенизатор, будь водолив-де!
Да в этой схиме столько же поэзии,
Сколько авиации в лифте!
Далее автор воздает должное агитке, но время агитки — «пулемета» — прошло: «Требуется биплан, требуется крейсер!» Оценивая собственный поэтический опыт, он скромно замечает:
Это, брат, не ниже, чем плакатный столб
С беспредметным гонгом «Вперед, Время!».
Эпохе прикажешь: «Время, вперед!»
Раскроешь дверцы калиток…
А время задом вперед попрет,
Как Гегель к заре Гераклита.
(Какой ужасно образованный, постигший тонкости диамата лирик! В советской литературе конца двадцатых много было такого философского панибратства — Гегель попер к Гераклиту и наоборот. Маяковский-то диалектику учил не по Гегелю, Сельвинский и тут его превзошел.)
Это было бы даже и пророчеством, пожалуй, если бы такое ракоходное время не получало авторского одобрения и оправдания: иногда, оказывается, надо назад, и долг поэта — обслуживать эти прихоти эпохи, а не переть в единожды избранном направлении: «Не суйся ж быть ее автором, а будь при ней акушером». Слова «Взамен языка диалектики не рычи диалектом жандарма» вызвали ярость Бриков и негодующее протестное письмо Асеева; Сельвинский сдал назад и в книги включал радикально переписанный вариант. Но слово-то не воробей, топором не вырубишь.
И финал, конечно:
Резолюция ж, товарищи, как покойник:
Выносят — шумят, а вынесли — забыли.
Намек ясен, и как ни ужасно — тут он оказался пророчески прав, как и Бабель, считавший, что Маяковского уже через полгода «замолчат». Вячеслав Полонский — другой литературный враг Маяковского и, по странному совпадению, однофамилец его последней возлюбленной, — записывал в дневник 2 марта 1931 года: «Это поразительно, как быстро забыли Маяковского. Года еще нет, — а он позабыт, как будто его и не существовало. Был он, нет его — не все ли равно». И хотя в этом дневнике, когда речь заходит о Маяковском, масса грубых, обидных, а то и нарочито унизительных оценок, — автор по крайней мере понимает, о ком говорит. И главное — он Маяковского ПОМНИТ.