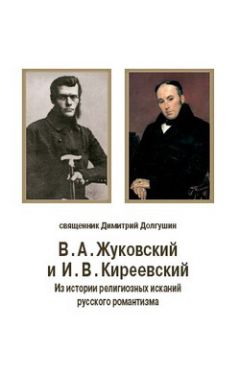Кто же такие были калики, исцелившие Илью? Это нам будет важно далее для анализа Штольца. Калики — странники, но странники особые, связывавшие Русь с остальным миром, ходившие; «ко городу Иерусалиму, //Святой святыни помолитися, //Господню утробу приложитися, //Во Ердань-реке искупатися, // Нетленной ризой утеретися». В. Калугин называет калик «вестниками»{359}. Калики перехожие были живым средством контакта, выполняя функцию носителей информации. Когда отсутствуют книги и другие возможные средства связи людей, только калики перехожие сообщают жизнь автохтонной культуре. Ведь в таких замкнутых сообществах вся информация получается только через устные сообщения. Вспомним странницу Фёклушу из пьесы Островского «Гроза». Функции у неё те же самые: сообщать, что в мире происходит, хотя сама Фёклуша уже говорит: «Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать — много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землёй правят… А то есть ещё земли, где все люди с пёсьими головами». Фёклуша — это уже вырождение количества, странничества, её роль прямо противоположна роли калик. Она уже не ходит, а только слышит, она немощна, а калики — богатыри, посильнее Ильи Муромца (судя по былинам), она неграмотная, калики — грамотны, она врёт и запугивает чужеземьем, калики — носители реальных известий. Былина подчёркивает их книжность, учёность: «Они крест кладут пописанному, //Поклон ведут по-учёному», то есть так, как в книгах написано, а не по обычаю.
Почему, однако, калики помогли Илье Муромцу, а ни Штольц, ни Ольга не сумели помочь Обломову? Во-первых, Илья Муромец — свободен (свободно уходит из родительского дома, препирается с князем Владимиром, он не крепостной), во-вторых, защищая свободу своей страны, этот эпический герой живёт деятельно, он в постоянных трудах, физических и духовных. Илья Ильич — крепостник, мешающий своим крестьянам жить (напомню разговор со Штольцем, который предлагает дать мужикам «паспорты, да и пустить на все четыре стороны». Илья Обломов боится, что все разбегутся. «Да пусть их! — беспечно сказал Штольц. — Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдёт; а если ему невыгодно, то и тебе невыгодно: зачем же его держать?» «Вот что выдумал! — говорил Илья Ильич».). Это разговор буржуа-предпринимателя, которому выгоден свободный труд, и представителя азиатски-крепостнического сознания, который не понимает ни ценности, ни выгоды всеобщей свободы. Именно это обстоятельство подвигло Чаадаева на суровый приговор: «Взгляните только на свободного человека в России — и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом»{360}. Поэтому Илья Ильич ещё не знает о необходимости нравственно-духовной, рождённой свободным действием, гимнастики, гигиены для того, чтобы стать человеком. «Для души есть диететическое содержание, точно так же, как и для тела; уменье подчинять её этому содержанию необходимо, — писал П. Я. Чаадаев в своём знаменитом первом «Философическом письме». — Знаю, что повторяю старую поговорку; но в нашем отечестве она имеет все достоинства новости»{361}. Приведу ещё один диалог Штольца и Обломова.
« — Помилуй, Илья! — сказал Штольц, обратив на Обломова изумлённый взгляд. — Сам-то ты, что ж делаешь? Точно ком теста, свернулся и лежишь.
— Правда, Андрей, как ком, — печально отозвался Обломов.
— Да разве сознание есть оправдание?
— Нет, это только ответ на твои слова; я не оправдываюсь, — со вздохом заметил Обломов.
— Надо же выйти из этого сна.
— Пробовал прежде, не удалось, а теперь… зачем? Ничто не вызывает, душа не рвётся, ум спит спокойно!..
—… Ты сбрось с себя прежде жир, тяжесть тела, тогда отлетит и сон души. Нужна и телесная, и душевная гимнастика».
Но лекарство (гимнастика тела и души!), предложенное когда-то русскому обществу Чаадаевым, а Обломову — Штольцем, казалось слишком горьким, требующим усилий. Если бы оно всё так, да как-нибудь незаметно бы, — вот реальный припев врагов подобного лекарства. Богатырские упражнения древнерусских витязей тем более утомительны.
К тому же Илья Обломов, в отличие от Ильи Муромца, и движения боится: «Кто ж ездит в Америку и Египет! Англичане: так уж те так Господом Богом устроены; да и негде им жить-то у себя. А у нас кто поедет? Разве отчаянный какой-нибудь, кому жизнь нипочём», — восклицает Обломов. Илья Муромец, как мы помним, после того, как встал, вечно в движении, всё его интересует, что происходит в мире. Илья Ильич только саркастически замечает: «Жёлтый господин в очках… пристал ко мне: читал ли я речь какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошёл о Пудовике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю: отчего французский посланник выехал из Рима? Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься!» Вообще-то надо сказать, что пустое пережёвывание мировых новостей не раз осмеивалось русскими писателями, достаточно вспомнить изображённый Львом Толстым салон Анны Павловны Шерер. Осмеяние это было справедливым, однако, только отчасти. Сама структура недемократического устройства общества не давала обсуждению перейти в дело, иными словами, принять гражданам реальное участие в судьбах своего отечества. Но отсутствие интереса даже к такому обсуждению означает низшую стадию выключенности из исторического самосознания. Это — жизнь вне времени, характерная для Обломовки. Рассуждая о художественных особенностях гончаровского романа, Д. С. Лихачёв замечал: «Спит не Обломов спит природа, спит Обломовка, спит быт. Вневременность подчинена Сыту — сонному, неизменяющемуся. В Обломовке нет ничего внезапного, ничего совершающегося не по календарю… Грамматические формы и виды соединены в одной фразе: переходы от прошедшего к настоящему и от будущего к прошедшему подчёркивают, что время в Обломовке не имеет особого значения»{362}.
Заметим, что эта «вневременность», потеря жизнеспособности свойственна не одному Обломову, в этом образе просто концентрированнее, чем в других, выразилась боль и тоска всей русской литературы. «Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе… Это коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьёзных художников»{363}, — замечал Добролюбов, далее выстраивая вереницу сонных, спящих или полуспящих героев: Онегина, Тентетникова, Бельтова, Печорина, Рудина, к ним можно прибавить и толстовского Облонского (не случайна, видимо, звуковая перекличка имён: Обломов — Облонский), чеховского Ионыча… Мы знаем из былин, сколь важное значение имело пробуждение Ильи Муромца, столь же важно было для России, проснётся ли Илья Обломов.
Но, могут нам сказать, нельзя сравнивать барина и крестьянского сына. Замечу ещё раз, что былина берёт свободного крестьянина, Гончаров тоже берёт представителя самого свободного сословия в России на то время, дворянина человека, который даже генетико-исторически был представителе того слоя русских людей, задача которых — защита рубежей отечества, это входило в первоочередную обязанность дворянина. Так что Илья Ильич должен бы был стать преемником Ильи Муромца, вождём и двигателем народной энергии[35]. При этом в просвещённом обществе защита отечества не обязательно связана с воинской службой, она состоит в укреплении его могущества, благосостояния, культурного значения и т. п. Обломов оказывается этому не способен. Более того, обломовское отношение к жизни заражало (можно и это предположить) все слои общества. Вышедший, как и Гончаров, из того же сонного Симбирска[36], послужившего Гончарову прототипом его Обломовки, Ленин писал «Был такой тип русской жизни — Обломов. Он всё лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а всё же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть чтобы какой-нибудь толк вышел. На этот счёт мы должны смотреть на своё положение без всяких иллюзий»{364}.
А если так, то не Обломов виноват в общественной спячке, он просто никак не может преодолеть её, вырваться из сковывающих пут сна. Но в отличие от представителей всех остальных слоёв общества, именно у дворянина Обломова есть эта возможность, возможность выбора. И его трагическая вина, по Гончарову, в том и состоит, что он этой возможностью, подаренной ему историческим развитием, не пользуется. Дело в том, что русское дворянство, выросшее на субстрате крепостного рабства, как и свободное население античных полисов, использовавших рабский труд, имело все предпосылки для высокого досуга — основного условия творческой деятельности. Через деятельность Пушкина, Чаадаева, декабристов, Герцена, Льва Толстого шла духовная подготовка всеобщего освобождения. В обществе вносилась идея свободы. Именно дворянство, полагал Герцен, должно разбудить русскую крестьянскую общину навстречу революции. Даже если не говорить о революции, русский помещик Обломов может только своей собственной жизнедеятельностью оправдать выпавшее ему социально-психологическое преимущество свободы. Герцен писал: «Кто не знает, какую свежесть духу придаёт беззаботное довольство… Забота об одних материальных нуждах подавляет способности… Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина»{365}, — тем больше ответственность у дворянина — по идее, свободного человека — перед народом. Так считал не только Герцен, такова была практически общая установка просвещённых слоёв той эпохи.